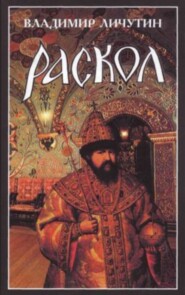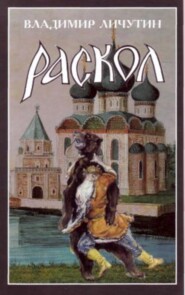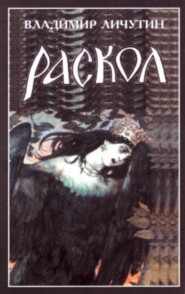По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Последний колдун
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Замолчи, а то схлопочешь.
Но Саня не унимался, не веря угрозливым словам, поигрывал покатыми плечами, туго покрытыми синим нейлоновым плащиком, от всей души старался помочь брату, истинно не понимая его страдании, похожих на детские капризы.
– Пойми же... Девушка не травка, не вырастет без славки. Ты только после не поддавайся, под ее трубу не пляши. У тебя козырь. Чуть что, с козырей ходи. Моя-то, слышь-ка, жена было концерты давать, а я ей – фига, поищи другого права качать, а у меня шея тонка, обломится, если тебя таскать. Она ну вонять: не зна-ла, за кого шла, а зна-ла бы, так не-е... дура была. А нынче как спелись: я на первый голос, она – вторым.
– Как в глаза Любе гляну? – тянул свое Степушка.
– Сеточки бросим, по стопарику тяпнем. И все без страха, по своей воле. У костра так давно не сиживал.
– Будто клещ впился, ей-богу. Отвяжись, худая жизнь!
– Ну все, все... перестал.
Неладно начиналась Степушкина женатая жизнь, не клеилась, будто злой рок подставлял ему ножку или черт за левым плечом подмигивал, строил рожицы и кого-то то и дело подначивал на очередную пакость. А иначе как объяснить одни неприятности? Только вознамерился Степушка войти к Любе и повиниться смиренно, дескать, любимая ты моя, прости за дикие выходки, лошадь и то оступается на ровном месте, а я же человек, на руках носить тебя буду и словом плохим не покрою, а тут мать и попади навстречу, от деда Геласия спешит.
– Где вы были, лешаки? Обыскались вас.
Саня, посвистывая, приобнял мать, шутейно поправил черный плат на голове, а Степушка, ковыряя ботинком отсыревшую дернину и пряча глаза, буркнул:
– Мама, перед Любой извинись.
– А чего такого сказала?
– Извинись, говорю, – повторил настойчиво.
– Ха-ха... Угорела барыня в нетопленной горнице. Иль я соврала чего? Нашел пару тоже. – Параскева завелась, побурела, захлопала ладонями по широким бедрам.
– Мама, замолчи же. Чего грязью поливаешь?
– Скажу вот... По правде-то разучились жить. А на хиханьках не проживешь, не-е.
– Не твое дело, слышь! – оборвал Степушка, сдерживая в себе гнев и боясь перейти ту грань терпения, после которой начинается темь. Взгляды их столкнулись, и в затяжной глубине Параскевиных глаз сын увидел смятение и испуг. Лицо необычно одрябло (иль так показалось лишь), щеки присохли к деснам, ведь старая старуха, а чего-то ерестится, жизнь портит и себе, и людям, выдай все и положь по-ейному. Подумал так и почувствовал усталость и жалость. – Зубы-то забыла, – понял вдруг внезапную перемену в материном обличье. – В стакане забыла иль потеряла?
– Да ну вас, сучье племя. Свистуны! – плюнула Параскева и круто поспешила в избу, подволакивая галошами по обочине. Ссутулилась мать, голова, плотно обтянутая черным платом, казалась рогатой и едва смотрелась над круглыми плечами, и потому походила сейчас стоптанная старуха на кургузого жука-дровосека, лишившегося пружинистых усов.
– А не вяжись ты с ней. Чего пристал к матери? – напомнил Саня. Кровь бродила в нем, будоражила, хотелось веселье продолжить и куда-то силу свою девать, чтобы полностью истомиться. – Ее не переделать, а ты лезешь. Ну сказала, ну ляпнула. Брань на вороту не виснет, размажи да сплюнь.
– Так едем, что ли? – сам подсказал Степушка, неожиданно для себя решившись, лихорадочно заспешил и в сенях не замедлил, не стопорил шага, но боковым зрением отметил про себя, что дверь в боковушку прикрыта плотно. Гундосил под нос, шарился в сумеречности повети, хотя знал, что Саня на кухне переодевается. – Чего сетка, сеткой много не возьмешь. Протянем неводком, вот и рыба. Палаге на поминки и с собой в Ленинград увезешь, жене на зуб.
Он торопливо, уже азартно запихал снасть в бельевую корзину, сверху покрыл брезентовой курткой.
В комнатах пахло едой и недавней гостьбой, на разоренных столах кучились объедки, мать сиротливо сидела в переднем углу, уронив опухшие руки в подол, и плакала. На сыновей даже не взглянула: только еще ниже, до самых глаз, сбила скорбный плат. Куда-то и дети запропастились, и Палька, и Витька, и Шурка – все вроде бы возле крутились, а тут укрылись по углам, по горницам, никто не сунется под руку и по-доброму не пожалеет, не приголубит, и оттого Параскеве становилось еще горше... При живых-то дитешах и сиротею, думала она. Понять ли им? Только добра желаю, а они нет бы покориться матери, смолчать когда. Вот и сон в руку, будто рыба – не то щука, не то налим большуханский – по дороге ползет, посуху, а голова у рыбы той коровья, рогастая. Так все и случилось: устроили из свадьбы посмешки. До ума вырастила, на ноги подняла, холщовой юбки до старости не сымала, от воды да от навоза сгорела, а они, дитеши лешовы... Ой худо, как у вороны нет обороны.
Слезы копились в морщинах, катились беззвучно из набрякших глаз, но не вытирала Параскева лица: пусть видят, измыватели, пусть знают, как страдает их мать. А сама не столько следила, сколько чуяла, как собираются они куда-то, ее сыновья, одежонку поплоше напяливают. Наблюдала сторонне, исподлобья как-то, часто подергивая замокревшим носом, а душа-то бабья помимо желанья так и вздрогнет, так и встрепенется, ох, идолы стомоногие, хоть бы к воде не совались, утопнут ведь спьяну, утянет водяной – долго ли в лодке опружиться, когда душа не своя. Страдала, но и словом не обмолвилась и на Санькино скоморошье прощание не откликнулась. Правда, чуть позже, когда Палька вздумает полы мыть, окрикнет ее Параскева испуганно: «Чего решила, глупа? Братья родные ведь уехали, не чужой кто. Следы-то сразу кто замывает».
Санька, надев застиранную фуфайчонку с материного плеча, сразу утерял свой фасон, поблек, и только черного бархату кепка, посунутая к пожелтевшему синяку, выдавала манеры отчаянного форсуна. Он сразу кинулся на угор, помахивая пустой дерматиновой сумкой, а Степушка, нагрузившись кладью, еще потоптался у немой двери, сам душою ополовиненный. Представлялось, что Люба так же мается в горенке, плачет, поди, а может, теща Фелицата подбивает ее к чему дурному иль норовит домой обратно увезти и когда вернется Степушка, уж беда ждет у ворот... Ну и не надо тещиных блинов – встанут в горле. Подгорячил себя, еще чумно потыкался по сенцам, а после ногой настежь отпахнул дверь и, подгибаясь в коленках, поспешил за братом вдогон.
Тот караулил, оказывается, за банькой. На десять лет старше, а стал канючить позади, как малый ребенок: «Слышь, Степка, горячительного-то, а? Рыба ведь посуху не ходит». «Как знаешь, как знаешь», – равнодушно отмахнулся Степушка, занятый своими переживаниями, а Саня какое-то время еще тянулся следом, после неслышно исчез из виду и вскорости воротился к реке, посвистывая довольно, и дерматиновая сумка тяжело провисла в руке.
7
Деревня сегодня в предчувствии затяжной осени необычно постарела, хмуро набычилась, в слоистом заводяневшем воздухе избы намокли до черноты, и на угоре противу обыкновения никто не толпится. Только изредка отмахнется рыженькая дверь магазина, кто-то сбежит с высокого крыльца и, сутулясь, тут же исчезнет за углом. Не было нынче смотрящих, не от кого было таиться сегодня, и что-то выдумывать, и загодя привирать, дескать, за сенами вот собрался на Митюшиху или, что еще смешнее и нелепее, в Осиновиху за грибом, хотя рыжика тут вот, прямо за кладбищем, хоть лопатой греби. Некому сегодня крутить завиральни, твердо зная, что все загодя угадано и половине Кучемы известно, куда наладились мужики, ибо рыбак виден и чуется издалека по сосредоточенности лица и беглости взгляда, когда он суеверно старается избежать встречи с посторонним глазом. Но в этой-то тайне, с которой уходили на промысел, видна была своя радость, своя игра, когда затеянное предприятие наполняется азартом: ведь мало только закинуть поплавь и достать рыбы, но надо и таиться, рисковать и, постоянно помня о караульщиках, опасливо напрягать сердчишко... Хотя во всем этом ныне запретном промысле, положив руку на сердце, много ли вы найдете забавы, легкости и безделья? Представьте затяжную осеннюю ночь, полную мокряди, когда и нитки сухой на теле, и костерок запалить – боже упаси, а каждая телесная жилка стонет от холода, и руки сбиты до кровавых мозолей, и, может, не раз зашибся в темноте, но, скрепив зубы, страшишься выматериться в полный голос и хоть этим утишить боль, ибо кругом таится страх, за каждым облаком прибрежного куста – засада, а то и убегать вдруг придется: надзор повис над кормой, уже настигает, и по высокому вою нагретого мотора слышна близкая расплата, а тут своя тачка лишь сипит, и хорошо, если в последнее мгновенье, когда, кажется, уж поседел, вдруг забренчит в суставах, – а там дай бог ноги да ближний тайный схорон. Нет, братцы, труса на такой лов не затянешь, и холодный человек отмахнется от подобной рыбалки, ведь куда ловчее выспать ночь подле сдобной жены в теплых перинах, а после, следующим вечером, прийти с хозяйственной сумкой в избу удачливого рискового мужика и выудить семужье звено за косушку водки...
– Ну, трогай, саврасушка, – скомандовал Саня, усевшись поудобнее на бельевую корзину со снастью. Степушка отпихнулся от берега, пристально вгляделся в близкое дно. И сразу думы затеснились, такие лишние сейчас. Трудная река Кучема, с норовом, мыслителей она не любит, глаз да глаз тут нужен и чуткая к мотору рука: только ушел в себя, зазевался – и замшелый камень под винт. До первого переката не дошли, как полетела шпонка. Пока возились с мотором – намокли, и Саня захандрил.
– Давай для сугреву, – стал упрашивать. – По махонькой, по ма-хонь-кой, чем поят лошадей.
– Если под каждым перекатом пить, не стоило и трогаться.
– Так уж и сразу. Чего торговаться? По одной, а?
Степушка, сдаваясь, огляделся: низкий берег тянулся ровно, осота уже загрубела и пожелтела, дальше по наволоку едва проглядывали обвершья зародов, а за крутым коленом реки угадывалась деревня. Недалеко ушли, и двух километров не отметили, какой тут отдых? Но Саня разыгрывал, стучал знобко зубами и не садился в лодку, потом выхватил сумку и по глинистым клочьям полез на бережину. А сыро-то было кругом, вода под сапогом хлюпала – не присесть: пришлось достать брезент и раскинуть на отросшей отаве. Но если решились опустошить по стопарику, то надо и заесть чем-то? Вот и снедь разложили, уселись поудобнее, а после зачина и безмятежное спокойствие нашло: провались все в тартарары, какая уж тут рыбалка на ночь глядя, да и далеко ли уйдешь по такой реке, если за каждой излучиной вода кипит на каменьях, и только большой знаток может ровно, без помех забраться на лодке в истоки.
А тут раз в год приедешь из города, на чужой посудине свозят тебя и неводок закинут, а ты, по-родственному, только ложку почаще запускай в котелок, да выбирай семужьи черева. Не каждый день человек в гостях, оттого и вниманье ему, и кус послаже. Забыл Степушка реку, отвык от ее характера: после первой же рюмки тайно признался себе в этом, но на словах еще хорохорился, тормошил брата:
– Тут тебе не у тещи в гостях. Хоть и сбил меня не ко времени... Но рыбалкой угощу. Я ведь не Василист. – Почему-то с обидой вспомнился братан. – Кто раньше не ловил, тот и нынче не ловит. Тут азарт нужен. С Василистом, бывало... Смех ведь. Окунишко выдернул, с палец длиной, вот таку-сень-кий, загнулся – едва видно, а он его коленом-то прижал да и кричит на все озеро: «Уймись, зверь!» Окунишку-то дерг, напополам и рассадил. Во рыбак-от...
В душе Степушки словно бы запруда рухнула: всю свадьбу язык на замке, а здесь заговорил вдруг с лихорадочной горячностью. Саня молчал, под рыжеватыми козырьками бровей пыльные глаза улыбались, но в глубине их таился недоверчивый холодок, мол, давай-давай, заливай пуще, а я послушаю; чуя эту далеко спрятанную насмешку, Степушка заводился еще круче, словно бы доказывал что:
– Не веришь?..
– Гы-ы-ы...
– Не веришь, да?
– Ух ерш-скобаревич. Ты не заводись только.
Незаметно одну посудинку опустошили, и Саня из дерматиновой сумки, стоящей подле, выудил вторую.
– Да я здесь, если хошь, каждый камешек знаю! Мне город-то – во! – черкнул Степушка ладонью по шее. – Думаешь, я тихоня, сопля. А фигуру из трех пальцев не? Я над собой не дам плясать. У меня силы хватит, не гляди, что тощой... Парня одного изуделал, на аптеку поныне работает. Не захотел, зараза, пол в комнате мыть. Давай ереститься, давай выгибаться на публику: я не я и рожа не моя. Его очередь, а он фраера корчит. Морда во, кирпича просит... Я только на вид худой, слышь! В кровь его, собаку, уделал! Сейчас первым лапу подает. Ты меня, Санька, не знаешь...
– Ладно, братуха, не кипятись. Может, баиньки! – Саня приобнял Степушку за плечи, пробовал повалить на брезент, а сам уж раскис весь, безвольно обмяк, готовый в ту же секунду забыться. Да и то сказать: на старые дрожжи, да новый хмель – много ли тут надо, одна лишняя рюмочка любого питуха с ног кинет. Но Степушка распалился, заартачился, обидно думалось, что и здесь ему не верят, родной брат насмешки строит. Схватил Саню под мышки, пробовал поднять, орал в самое ухо:
– Я тебе покажу... не веришь, да? Я такой омуток знаю...
Но Саня каменно обвис, тело отсырело и затяжелело вдвойне, он уже и говорить не мог, а только мычал: «Баиньки давай».
– Я тебе покажу баиньки. Чего разлегся, боров сытый.
Через надсаду и муть в голове все-таки удалось поднять брата, и он стоял даже некоторое время, пока Степушка подпирал его со спины. Но вот неисповедимая шальная сила повлекла Саню к земле, и он тяжко обрушился посреди брезента, раскинув руки. Степушка тоже покачался над ним, тупо размышляя о чем-то, но вот и его ноги ослабли, и парень, сложившись комочком, прилег на захолодевшую траву. Луговина напиталась осенней водой, от нее тянуло предательской сыростью, и коварная земляная тягость неслышно вливалась в каждую опущенную, бессильную жилку. Лежит человек и не ведает в хмельном бреду, как сила и здоровье по капле утекают из тела. Разломавшись по молодости, он завтра еще легко вскочит, может, и крякнет от мгновенной стреляющей боли в пояснице, а после и забудет вязкую осеннюю ночь, в которую он, не зная того, крепко пошатнул здоровье. А за что, за какую такую услугу столь бесценная плата? Спроси его, отрезвевшего, с посиневшими трясущимися губами, и покаянно-безмолвно понурится человек.
Река чавкала, билась в берега, бессонно ворочалась на каменистом ложе, жиденький свет зарождался по-над лесом, словно бы там плутали с лучиной, и снова мерк. Кому бы там шататься? Чья такая душа блудила в потемках по ночному взрытому небу, так похожему на забытую пашню? А тут и моряной потянуло, огрубелая трава сразу подсохла, заершилась, и похоже, что инеем опушило ее. Луговина, как бы принакрывшись плесенью, вдруг проступила из темени, и тут же на ближней осотной лайде, полной дождевой воды, заворочался журавлиный подрост и, пробуя горло, заскрипел жестяно, завсхлипывал, словно бы в забытой избе качнулась на ветру дверь. Ветер-то едва тянул от моря, он только наливался предзимней силой, но сразу же высквозил и выстудил все на миру. Вздрогнул Степушка, но не очнулся пока, только опухшие багровые руки протиснул по-детски меж колен и что-то жалостное простонал. Может, привиделась молодая жена, ее налитые слезой укорливые глаза проникли в самую душу, и Степушка, уже прощенный и простивший, тянулся к смутно белеющему плечу и скомканной на груди рубашонке, силясь разъять испуганные пальцы...
Саня, тот очнулся сразу, потянулся до хруста в хребтине, здорово и сыто хукнул, прочищая от перегара глотку, а голова после такой-то затяжной гулянки оказалась на диво пустой и свежей, без всяких смутных тревог. «Наелся винища, нечего сказать». Вдруг вздрогнул, знобко перебирая лопатками, прислушался к себе: сердце в ребра толкнулось сильно, без сбоинки. «Набрался опять, – подумал без раскаяния, даже с некоторой хвастливой гордостью. – Угораздило же черта. И неуж все вылакали, скоты?» Потянул дерматиновую сумку с испугом, но ощутил полновесную стеклянную тяжесть и успокоился. И так радостно стало, что вчера до края не дошел, до той пьяной глупости, когда все трын-трава, не набрался, норму выдержал и на опохмелку «гранату» вот оставил.
– Ну и северик... до костей пробьет. Степ-ка, подымайсь, заколеешь ведь! – Позвал негромко и вяло, да и лихо в такую рань драть горло. Степушка заморенно скукожился на траве, что-то бормотал и цапал рукою брезент. Тогда, заранее расплываясь всем лицом, Саня добыл бутыль темного стекла и чмокнул граненым стаканом. Брат очумело открыл глаз, кровяной от плохого сна, пятнистый, с набухшим сиреневым веком, и, сдувая в сторону подмороженные инеем былки, долго и недоуменно уставился куда-то мимо Сани в колышущую пелену сумерек, на дне которых угрюмо катилась река.
– Эй, рыбак, рыбу-то проспал!