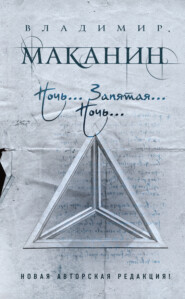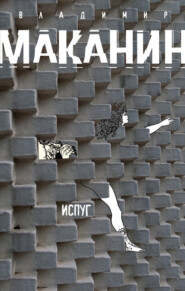По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Удавшийся рассказ о любви (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он немного и прошагал, когда сообразил, что испачкал о загон рубашку и что его уличат, – в некотором страхе рубашку он стянул и, протягивая перед собой, совал под льющие сверху струи, чтобы замыть, рубашку же внезапно вырвало и потащило ветром – он бежал за ней по грязному картофельному полю, а рубашка цеплялась за ботву, то как белая птица взлетала вверх и даже хлопала рукавами, как крыльями. Она исчезла. Когда очередной всполох молнии высветил пространство, он увидел ее вдруг уже в десяти шагах, беленькое ее тело, – и кинулся как мог быстро (он был без брюк и бос, какое счастье, что без брюк). Проехав плашмя по ботве, которая превратилась в холодные, остро пахнущие листья, и по земле, превратившейся в черный кисель, он упал, но тут же и вскочил, меся черную кашу ногами, – рубашка, прихваченная, уже была и билась в руках.
Когда он вернулся, бабка Матрена все еще не появилась, а эти две бабули тоже его не хватились – сидели и вели долгую беседу на ночь глядя.
Грязный ком рубашки он постирал в выставленном тазу; он быстренько повесил ее в сенях на веревке, что протянулась, нависая, над старой кадкой и над громадным ларем, на котором долеживал творог под гнетом. Выждав, как и при уходе, раскат грома, он рывком приоткрыл дверь, втиснулся из сеней в избу – и одним духом, в мокрых трусах, влетел на печку.
Лежа на печи и мало-помалу согреваясь, он тихо, сдержанно постукивал зубами. Он слышал негромкий разговор. Он еще не заснул, когда бабка Наталья и ее Мари подошли к образам в углу, приблизившись, опустились на колени и стали пришептывать. Помолившись, они легли на лавки, что стояли одна перпендикулярно к другой вдоль стены, – так и лежали, переговариваясь чуть слышно и с долгими паузами, а потом затихли. В тишине пришла бабка Матрена, управившаяся с вечерними делами, – на минутку она поднялась по стремянке, глянула на внука перед сном и тут же спустилась. Он затаился. Еще минута, и бабка Матрена прошуршала, уже босая, молиться она не стала, лишь мимоходом приложилась губами к иконе.
Он спросил на другой, кажется, день:
– Неужели тебе нельзя ее полюбить? Это почему же невозможно, чтобы вы любили друг друга?
– Невозможно, милый, – ответила бабка Матрена. – Так получилось.
Глава 7
И бабка Наталья, и Мари были одинаково тщедушны, худосочны и различались меж собой мало – у бабки Натальи все же была спина, прямая спина, худая и прямая, а Мари была просто как высохший жучок, увеличенный лишь настолько, чтобы в какой-то мере походить на человека. Столь же худа и мала была и бабка Матрена, разве что руки, а если точнее, кисти рук были покрупнее, да был еще ноготь, раздвоенный как копыто; и тем-то удивительней, что в крохотно усохших тельцах жила неприязнь, жили страсти.
«От отца или от матери, от обоих ли – откуда же пошла в рост моя безындивидуальность?» – спрашивал Ключарев много после, взрослый и в себе копающийся… В бабках, он помнил, личное бросалось в глаза прямо и непосредственно, зато и было влияние: уже тогда, без жесткой поступи и в душе не наследив, незримым путем голубое и красное из цветов превратились в некое знание жизни, пусть чувственное, но со временем распространяющееся и вширь и вглубь. Очень скоро Ключарев-взрослый даже и годы своей жизни станет делить на год голубой и год красный. Отчасти играя, он будет моделировать текущую жизнь из двух цветов: голубой – это опять же нежный, высокий цвет, однако же заметно надменный, самообманывающийся; в сущности, это цвет несильный, лишь гордыней своей, а то и чванством рядящийся в силу. Красный же – цвет истинно сильный, практичный, хотя и не возвышенный, не тонкий, а по природе своей расчетливый (притом, что упрекающий всех вокруг именно за расчетливость), цвет отчасти еще и циничный, хотя и добрый, готовый понять, и простить, и поплакать с тобой, без тени высокомерия, без снисходительности. И пусто, серенько делалось ему, когда цветовая гамма детства не помогала ему понять, не срабатывала (а такое, разумеется, бывало), и какая только мешанина цветов не мерещилась тогда Ключареву в том или ином встреченном в жизни человеке, подчас человека перекашивая и делая вовсе темным.
Ливень не иссякал, но выздоравливающий мальчик повеселел и уже расхаживал по избе с разрешения бабушек, к счастью не знавших о его ночном походе, – смелея, он отметил, что с грозой можно вполне освоиться и в деревне: он уже не приседал при чудовищном раскате грома или же только имитировал испуг, приседал, но нарочито, – мол, делаю вид, что пугаюсь. По приезде он замечал внешнее: поле, и дорогу, и речку; теперь же, запертый, он заметил в избе и лавки, обретшие смысл, и светоносные окна со ставнями. После нагого поселка, а также после города, где на окнах были жалкие занавески, ставни в избе имели особый, понятный смысл: закрыть-открыть, есть свет, нет света, и даже герань на подоконниках подчинялась этому уясненному смыслу, первая встречая луч и первая же его утрачивая. Более того, пораженный, он сумел углядеть ту же простую прямоту и в бабушках, которые в известном смысле тоже были жестче, но и прямее устроены. И если одна бабушка открывалась, то вторая закрывалась, и наоборот – если любила бабка Наталья, бабка Матрена на время, пусть недолгое, затаивалась, уходила в тень. Они не суетились, они давали друг другу – враг врагу? – любить не мельтеша; отступая на время, они выжданно и открыто выплескивали свою любовь как противовес, но не как мешанину, – чуткая и вместе не уступающая ни пяди параллель долго хранилась в нем неким эмоциональным законом прямоты, постичь который он не мог, лишь чувствовал.
– …Не согрешишь – не покаешься, – намекала на что-то бабка Матрена.
И бабка Наталья отвечала:
– Святость, конечно, из греха, но святость, моя милая, для человека уже следующий, уже совсем крупный шаг.
В том и урок, что разность объятий двух бабушек была не только разностью рук и разностью запахов.
Обнимаемый бабками, он подчас не орал в их объятиях и не выдергивался только из терпеливости, но при всем том он уже понимал, что любовь их к нему свята, индивидуальна и направленна и что было бы нелепо, если бы, скажем, обе они обнимали его разом.
С дождем свыкаясь, он уже умел чувствовать особенный холод грозы меж одними зигзагами молний и другими: в миг молнии, в миг двух-трех-пяти ударов кряду нутро у него замирало в смутном ожидании беды, и вот тут – в промежуток тишины – холод брал свое и вдруг проникал в него, стоявшего на крыльце (на крыльцо он уже выходил – постоять под навесом). Сила холода ощущалась как бы меж грозой и грозой, именно меж двумя сериями ударов – в промежутке. И почти так же он чувствовал силу любви. Сначала скапливалось неудовольствие одной бабушки, и это означало ее любовь; накипев, она разряжалась (в сторону другой бабушки) так быстро, что он не всегда понимал, в каких словах, и не всегда улавливал, потому что разряд шел помимо него, – но зато теперь он чувствовал, как скапливается неудовольствие второй бабушки (в сторону первой), и это тоже была любовь к нему. Одна молчит, значит, другая – любит, так он привыкал, а в силу каких страданий их любовь к нему поднялась на высоту неба, он не знал, да и не знал, что это можно знать.
– …Споря с ней, Мари, я так надоела самой себе. Я, верно, скоро умру. Я никогда так себе не надоедала, – говорила бабка Наталья.
Она вязала (она думала, что он спит), а он, лежа на печи, испытывал это удивительное обаяние коротких, вдруг возникающих реплик и умолчаний.
– Он забудет меня.
Мари возразила:
– Он полюбит тебя со временем – издали. Когда повзрослеет.
– А красива ли я издали, Мари, вот в чем вопрос.
И смолкли.
Внутри избы он пригляделся в последнюю очередь к тому, что было ближе всего, – к потолку; нависающий над печью потолок был прямо перед его глазами. Незамечаемая близость потолка, да и близость стены, стыкующейся с потолком, как оказалось, хранили для него определенное ощущение своего места, которое тут же исчезло, едва кончился ливень.
Глава 8
Незанятых лошадей в деревне не было, а ходить от избы к избе и слезно упрашивать бабка Матрена отказалась: ищите, мол, и сговаривайтесь сами…
Мари спросила:
– Как же это? По дворам, что ли, ходить?
– Именно. Если искать, я ведь тоже бы по дворам ходила. Мне тоже не докладывают – кто куда едет.
Бабка Наталья и Мари по дворам ходить не желали: им мнилось, что бабка Матрена заглазно уже представила их всей деревне в искаженном, а может быть, и в нелепом виде. Они нашли облегченный путь: то Наталья, то ее Мари выходили в самый конец деревни, это называлось «выйти за кузню», – маленькая и почти всегда не работающая, стояла там омертвевшая кузница, сарай такой, и сразу же за этим сараем избы кончались, а дорога раздваивалась, и более накатанная из двух – налево – вела к станции. Одна из старух, неся вахту, выходила туда и стояла на белом пыльном пятачке раздвоения дорог и, если подвода проходила мимо, спрашивала: «Не подвезете ли?..» Этот житейский опыт, рассчитанный на городское «вдруг», здесь себя не оправдал, более того, подвел их: единственная подвода, шедшая на станцию, сама собой стала, и возчик крикнул: «Давай, бабка, влазь скоренько!» – на что бабка Наталья сказала, подожди, мол, товарищ, храня достоинство и прямизну спины, она отправилась за Мари, но пока обе старухи пришлепали к развилке со своими изящными чемоданчиками, возчик уехал.
На следующее утро старухи вновь поцеловали маленького Ключарева; ранехонько вставшие, они кое-как перекусили, наскоро поплакали о маленьком, оставляемом ими Андрейке и пошли на развилку со своими чемоданчиками и с бутылкой колодезной воды, заткнутой тряпицей. Они простояли все утро, они стояли еще и до обеда, пока жара и зной не загнали их вновь в избу.
Слово характер в бараках было в большой чести – то самое понятие, которым мальцы хоть как-то отличались друг от друга. Говорили, что такой-то «пацан с задатками» или «со способностями», наверху же всей горы существующих слов и оценок было слово начитан («пацан здорово начитан!..»), но еще выше, уже у самого неба, располагалось слово «характер». От слона веяло тайной куда большей, чем от трофейных кинофильмов или колдунов Гоголя, а услышать к себе применительно, что «у мальца – кажется – характер», было мечтой из самых сладостных. Характер – было что-то как бы найденное на дороге, данное от судьбы, чего никак нельзя было ни купить, ни даже вычитать в книгах.
Пусть невольно он выискивал этот самый характер в самых разных людях, встречающихся в его детстве, и, разумеется, он не искал в этой избе, однажды решив, что никакого характера у тщедушных и носящихся со своей любовью старух нет и быть не может, – и лишь много позже, взрослому, ему было дано понять, что он ошибался и что именно в бараках собственное лицо, называя его характером, мало кто имел – потому и говорили о нем утратившие.
Бабка Наталья, не сумевшая и в этот день найти подводу, разбитая, стоптавшая ноги и выжженная солнцем, говорила в слабости своей (жить ей оставалось год):
– Я умру, милый, но я буду с тобой.
Она говорила:
– Я умру, но я буду с тобой, моя радость, моя улыбка, мой ангел…
– Как ты будешь со мной, если ты умрешь? – интересовался внук.
Не поясняя, она говорила о том же:
– Мне ничего не надо, мне даже не надо, чтобы ты помнил меня, но я хочу быть с тобой, хочу, чтобы моя любовь, моя нежность, моя душа были рядом с тобой, когда ты будешь жить, а я не буду…
Она заплакала:
– Ты забудешь меня, но я и забывшего буду тебя хранить: я буду по утрам с тобой (вечера, бог с ними, ты найдешь, как и кем свои вечера занять), но по утрам, когда будет раннее мягкое солнце и ты будешь просыпаться и будешь идти по улице, я буду с тобой рядом, я буду с тобой, я буду с тобой, и мне ничего больше не надо…
Маленький Ключарев услышал сухой треск, когда бабка Наталья вырвала клок своих волос; не ойкнув, она выдрала прядь – она улыбалась, от волнения губы ее прыгали, глаза сияли. Она повязала вырванные волосы вокруг среднего пальца его руки, она заматывала ему палец, а волосы секлись и рвались, а она опять заматывала и надвязывала. Стараясь передать ему свое пережитое и обретенное в опыте, а также и свой мир, пусть небольшой, бабка Наталья и бабка Матрена – обе – не сомневались, что мир каждой из них, хотя и мал, намного превосходит тот, каким дышал и жил маленький Ключарев, то есть мир бараков. Более того, у каждой из старух было чувство неоспоримого превосходства над тем миром, каким дышали его отец, его мать и он сам. «До чего дожили!» – говорила и та бабка и другая; они так говорили про его любимые бараки, и, кажется, это было единственное, в чем они меж собой соглашались.
* * *
Бабка Матрена умерла через год, вдруг ослабевшая. Умирая, все, что у нее было, она раздавала или же продавала совсем дешево. Торговаться по слабости уже неспособная, она продала дом «на вымор», то есть доживала в нем сама, а ведь в поселке или в пригороде, сумей она выехать туда на торги, и хозяйство, и корова, и дом, хотя бы как сруб, стоили бы много дороже. Это верно, что, слабея умом, она завещала похоронить внука Витеньку рядом, однако же кое-что она соображала, в частности ее тревожили тысяча сто рублей, оставшиеся от распродажи, и она у знающих людей с упорством выспрашивала, что купить Витеньке, чтобы было и памятно и ценно. Ну хоть велосипед, говорил кто-то, ну часы, но она, как бы предвидя ход дней, все отвергала: «Не промахнуться бы. Не подешевеет ли это?..» Она так и не придумала ничего и, не придумавшая, завещала деньги просто как деньги, после чего и умерла – счастливая и радостная, наказав верному человеку, чтобы передал деньги ее внуку из рук в руки. Ключаревы, однако, жили в далеком уже городе, и передать им было непросто.
Не прошло и месяца-двух после ее смерти, как в связи с денежной реформой деньги превратились в сто десять рублей, но и эту сумму верный человек передать пока не сумел, – ослабевший ногами, он передал деньги другому далекому родичу, а тот и вовсе умер, успев, впрочем, в свой черед наказать сыну, одному и другому, с деревенской аккуратностью взяв с каждого из них честное слово. Прошло много лет, Ключарев уже кончил вуз, уже работал второй ли, третий ли год, и однажды в Москве после бурной попойки и пенья песен хором, после внушительного «посошка» Ключарев пошел проводить одного из родичей к метро, или, может, его провожали, – уже и это нелегко вспомнить, – как вдруг родич сказал ему: «Слушай, а ведь я должен тебе деньги отдать – твоя бабка оставила, помнишь, в письме писали?!» – «Да ладно!» – «Нет уж, давай-ка точку поставим: я отцу обещал!..» И родич настоял – идем-ка, мол, в сторонку, и притом именно сейчас: а то, мол, он опять и надолго забудет. Заплетаясь ногами и покачиваясь, они подошли к близкому фонарю, и там, при бледном его свете, родич вынул кошелек и, порывшись, – слава богу, нашлись без сдачи! – выдал Ключареву одиннадцать рублей, в которые превратился бабкин дар после двух реформ.
Бабка Матрена была уже в сильнейшем забытьи, когда те, кому она продала избу, пожелали въехать, так как бабка никак не умирала до зимы, хотя и обещала. С уральскими морозами, если нет крыши над головой, шутки плохи, – потому они въехали, а бабку Матрену отвезли в Ново-Покровку, где, кажется, она и умерла и была похоронена. Ключарев и по сей день не знает, где лежат ее старые кости, ибо могильных крестов той поры, от времени истлевших, уже не осталось; соответственно, не знает он и того, где завещано ему лежать. Он не знает ни одной из могил двух старух, любивших его больше, чем другие люди. «Так получилось», – как сказала бы бабка Матрена.
Так получилось, что после их смерти возникнет в Ключареве огромный и холодный провал нелюбимости, – и это время, время без любви, ему придется жить и прожить, вплоть до поры взросления, когда возмужание и опыт близости с женщиной в многоликой сумме своей уравновесят наконец потерю, пусть даже отчасти обманом.
Глава 9