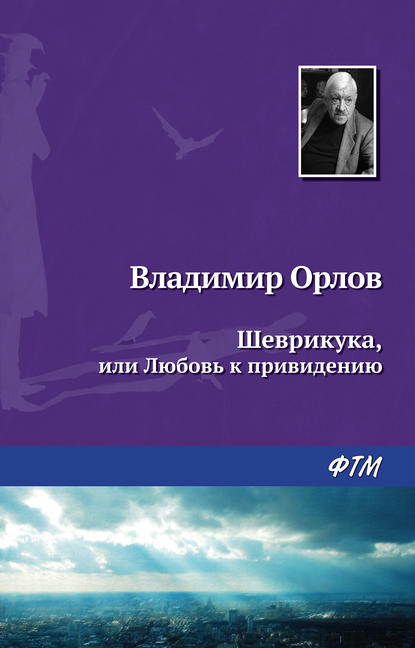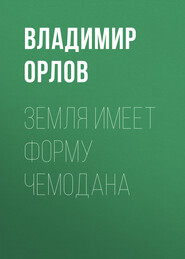По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шеврикука, или Любовь к привидению
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Надолго ли?
– Пусть и ненадолго. Поэтому я здесь. Это не должно пропасть. И я принес вам…
– Чего еще? – насторожился Шеврикука.
Пэрст-Капсула протянул к нему руку, разжал пальцы. На ладони его что-то лежало. Одно, рассмотрел Шеврикука, – круглое, другое – продолговатое, чуть закрученное по краям.
– Я не возьму, – сказал Шеврикука.
Теперь он впрямь отодвинулся от духа.
– Но ведь пропадет…
– Мне велели это передать? – спросил Шеврикука.
– Нет. Никто не велел. Это я. Это мое.
– Не возьму! – сказал Шеврикука нервно. – Ни за что! Мне не надо!
– Но ведь пропадет! – взмолился Пэрст-Капсула. – Или учуют, захватят и наделают плохих дел. И не расхлебаешь!
Шеврикука и во тьме, в черной черноте черной комнаты все мог увидеть, теперь же он хотел узнать, синие ли у Капсулы глаза, но тот наклонил голову, в прощальный раз рассматривая свои ценности. Как будто бы не синие, как будто бы темнее… Но что из того! Что из того!
– Откуда происходят?
– Это мое.
– Ворованное? – сурово спросил Шеврикука.
– Нет! Это мое! – обиделся Пэрст-Капсула. – Откуда, не могу сообщить.
И Шеврикука взял.
Не мог брать. Не должен был брать. Но взял. Предметы были тяжелые. Металлические. Весомее золота. Руку Шеврикуки потянуло вниз.
– Ну и что? – сказал Шеврикука. – Вроде монета. Морда на ней чья-то с коротким волосом. На обороте – лист растения. Или, может, не монета, а жетон. Бывало, сунешь такой куда-нибудь в отверстие, а тебе нальют пива. Или керосина. Не фальшивая? На зуб пробовал?
– Не фальшивая.
– А это что-то продолговатое, крученное по краям. Смахивает на лошадиную голову.
– Да, – кивнул Пэрст-Капсула. – Похоже на лошадиную голову.
– Ну и что? Для чего это? И что с ним делать?
– Не знаю. Осмелюсь предположить – для чего-то важного. Возьмите. И оберегайте.
– Нет! Ни за что! Сейчас же забирай! Или выкину!
Однако рука Шеврикуки никуда не двинулась, а пальцы его сжались.
– Прощайте, – сказал Пэрст-Капсула. – Я ухожу.
Тут Шеврикука выказал слабость, привстал и в сентиментальном порыве попытался горемыку обнять напоследок. И сам он не ожидал от себя проявления чувств к существу, вовсе ему не близкому, а возможно, и поддельному. И Пэрста-Капсулу его движение скорее напугало – не ценности ли ему хотели возвратить, тот отшатнулся от Шеврикуки, прошептал: «Прощайте» – и исчез.
Выпрямить пальцы, отодрать их друг от друга, вызволить их из несвободы жадности Шеврикука не мог. «Экие они дошлые! – в досаде размышлял Шеврикука. – Увидели, наверное, как я упрятывал обруганный мною же бант. Или без того вызнали, что я и впрямь лучше давиться пойду, нежели выкину объеденную молью тряпку или ботинок, стоптанный да с дырами. Опыт, что ли, они намерены какой произвести надо мной? Над линейным-то?.. Кортес и Монтесума…» (Тут я, рассказчик истории домового Шеврикуки, смущен и пребываю в недоумении. Сам ли Шеврикука вспомнил о Кортесе и Монтесуме? Знал ли он о них вообще? Или это я, рассказчик, бесцеремонно ворвался в соображения Шеврикуки?..)
А пальцы Шеврикуки разжались.
9
Монету (или жетон) и лошадиную голову, за ночь не исчезнувшие, следовало незамедлительно укрыть. Но у кого и где? Сдать в ломбард? Смешно. А держать приобретения вблизи себя Шеврикука не видел резона. Чур их! Подальше их! Не его они, не его! А кого – он не знает! Два адреса среди прочих Шеврикука все же выделил. Но после размышлений дом мухомора с бородкой, ныне выдвиженца, Петра Арсеньевича, Шеврикука отклонил. Прежде он наследство бедолаги Пэрста-Капсулы (поутру Шеврикука как бы согласился с тем, что Пэрст – бедолага, жил отдельно, сам по себе) спрятал бы в доме Петра Арсеньевича. Но теперь гордыня остановила его.
Оставалось проникнуть в Дом Привидений и Призраков.
Чтобы там не раскудахтались, не загремела посуда и не распустились возбужденные интересом уши, Шеврикуке пришлось выжидать удобные минуты. До полудня. После ночных трудов обитатели дома имели право вздремнуть – кто с храпом, а кто со свистом, и право это Шеврикука уважал.
Зимой привидения и призраки квартировали в Ботаническом саду, в Оранжерее, а в летние месяцы перебирались в Останкинский парк, под крышу лыжной станции или лыжной базы, что к западу от Потехинской церкви.
Лыжная база в Останкине, как вы знаете, на вид простой сарай, и не более того. Не дровяной, естественно, сарай, а протяженное сооружение, с украшениями из досок по фасаду, в начале века в нем могли бы содержать летательные аппараты Уточкина и Заикина. Но все равно сарай. Зимой там было шумно, пахло лыжной мазью и гуталином для тупоносых ботинок, но непременно и снегом, и ветром, наигравшимся в белых следах, и замерзшими лапами елок, а ближе к весне – и талой водой, и щеки милых лыжниц там розовели, и смех их звучал, и шел пар от титана с кипятком и серебристого бака с цикориевым кофе. Я более уважал снежные дороги в Сокольниках, но нередко бывал на лыжной станции и у себя, в Останкине.
А в апреле ее запирали на замок, и она впадала в летние сны. Это для людей. А привидения, призраки и иные личности, о которых здесь не время говорить, но, может, и придется, из Оранжереи, не скажу, что все с удовольствием, перебирались на лыжную базу. В свои Апартаменты. Работники, забредавшие летом в прохладные недра сарая, чтобы убедиться, все ли в порядке, ничего, кроме стеллажей со спортивным инвентарем и обувью, столбов со скамейками, не наблюдали. Все было в порядке, и, конечно, стоял в помещении неисчерпаемый и вкусно-черный запах лыжной мази. Лишь одной из уборщиц каждое лето мерещились в неосвещенньх углах мерцания шелковых платий и слышались дальние дивные голоса. Один из них как-то явственно пропел: «Было двенадцать разбойников и Кудеяр атаман». И смолк. Уборщица, докладывая о видениях, ни на чем никогда не настаивала, не просила о прибавке к зарплате, а только мечтательно улыбалась. Начальники ее ворчали, находя объяснения ее видениям в том, что вблизи лыж и ботинок завелась моль и порхает, или грызуны, или даже летучие мыши и надо принимать меры. Однако сезон следовал за сезоном, а дивные звуки слышались, и шелк шуршал и мерцал.
Шеврикука, если бы знал об этом, рассудил бы: раззявы и дуры ведут себя неопрятно, залезая в чужое пространство. Не мечтательную уборщицу имел бы он в виду, та лишь обладала тонкой восприимчивой натурой.
Теперь же Шеврикука путаными петлями шел к лыжной базе. Хвоста не вел. И никакая подозрительная трясогузка, или бабочка, или радиоуправляемая модель его не сопровождали. С северного бока сарая Шеврикукой третий год как была освобождена от гвоздей доска, в потайную щель, используемую им чрезвычайно редко, Шеврикука и прошмыгнул.
Ни единого звука он не издавал, не хотел, чтобы сегодня Горя Бойс знал о его посещении Дома, но уже в темени сырых пазов услышал:
– А-а! Да ведь это Шеврикука! А ну-ка пожалуй сюда!
– Да не ори ты! – рассердился Шеврикука. – Сейчас и подойду. Хоть и видеть твою рожу мне ни к чему. И не ори!
– Не будь пролазой! От дяди Гори Бойса все равно не уйдешь.
Из черноты надвинулся на Шеврикуку боевой стол на двух тумбочках и в шаге от Шеврикуки надменно замер. За столом, под канцелярской лампой, сидел взаимоуважающий соблюдатель Бойс, тощий, но притом пухлощекий, в валенках, в ватных штанах, пребываемых на теле Бойса в режиме подтяжек.
– Кто пролаза? Чего ты сам-то стену таранишь! Сиди и сиди у своих врат!
– Отчего здесь в неотведенный час?
– Я больной. Болею болезнью, – сказал Шеврикука. – На больничном.
– Предъявляй лист.
Шеврикука протянул бумагу из калекопункта.
Соблюдатель Бойс снял очки. Смастерил он их из фанеры и казнил ими мух. Явилась муха, он ее прибил. Прилетела вторая, эту Бойс почесал и шлепком направил жить дальше.
– Пусть и ненадолго. Поэтому я здесь. Это не должно пропасть. И я принес вам…
– Чего еще? – насторожился Шеврикука.
Пэрст-Капсула протянул к нему руку, разжал пальцы. На ладони его что-то лежало. Одно, рассмотрел Шеврикука, – круглое, другое – продолговатое, чуть закрученное по краям.
– Я не возьму, – сказал Шеврикука.
Теперь он впрямь отодвинулся от духа.
– Но ведь пропадет…
– Мне велели это передать? – спросил Шеврикука.
– Нет. Никто не велел. Это я. Это мое.
– Не возьму! – сказал Шеврикука нервно. – Ни за что! Мне не надо!
– Но ведь пропадет! – взмолился Пэрст-Капсула. – Или учуют, захватят и наделают плохих дел. И не расхлебаешь!
Шеврикука и во тьме, в черной черноте черной комнаты все мог увидеть, теперь же он хотел узнать, синие ли у Капсулы глаза, но тот наклонил голову, в прощальный раз рассматривая свои ценности. Как будто бы не синие, как будто бы темнее… Но что из того! Что из того!
– Откуда происходят?
– Это мое.
– Ворованное? – сурово спросил Шеврикука.
– Нет! Это мое! – обиделся Пэрст-Капсула. – Откуда, не могу сообщить.
И Шеврикука взял.
Не мог брать. Не должен был брать. Но взял. Предметы были тяжелые. Металлические. Весомее золота. Руку Шеврикуки потянуло вниз.
– Ну и что? – сказал Шеврикука. – Вроде монета. Морда на ней чья-то с коротким волосом. На обороте – лист растения. Или, может, не монета, а жетон. Бывало, сунешь такой куда-нибудь в отверстие, а тебе нальют пива. Или керосина. Не фальшивая? На зуб пробовал?
– Не фальшивая.
– А это что-то продолговатое, крученное по краям. Смахивает на лошадиную голову.
– Да, – кивнул Пэрст-Капсула. – Похоже на лошадиную голову.
– Ну и что? Для чего это? И что с ним делать?
– Не знаю. Осмелюсь предположить – для чего-то важного. Возьмите. И оберегайте.
– Нет! Ни за что! Сейчас же забирай! Или выкину!
Однако рука Шеврикуки никуда не двинулась, а пальцы его сжались.
– Прощайте, – сказал Пэрст-Капсула. – Я ухожу.
Тут Шеврикука выказал слабость, привстал и в сентиментальном порыве попытался горемыку обнять напоследок. И сам он не ожидал от себя проявления чувств к существу, вовсе ему не близкому, а возможно, и поддельному. И Пэрста-Капсулу его движение скорее напугало – не ценности ли ему хотели возвратить, тот отшатнулся от Шеврикуки, прошептал: «Прощайте» – и исчез.
Выпрямить пальцы, отодрать их друг от друга, вызволить их из несвободы жадности Шеврикука не мог. «Экие они дошлые! – в досаде размышлял Шеврикука. – Увидели, наверное, как я упрятывал обруганный мною же бант. Или без того вызнали, что я и впрямь лучше давиться пойду, нежели выкину объеденную молью тряпку или ботинок, стоптанный да с дырами. Опыт, что ли, они намерены какой произвести надо мной? Над линейным-то?.. Кортес и Монтесума…» (Тут я, рассказчик истории домового Шеврикуки, смущен и пребываю в недоумении. Сам ли Шеврикука вспомнил о Кортесе и Монтесуме? Знал ли он о них вообще? Или это я, рассказчик, бесцеремонно ворвался в соображения Шеврикуки?..)
А пальцы Шеврикуки разжались.
9
Монету (или жетон) и лошадиную голову, за ночь не исчезнувшие, следовало незамедлительно укрыть. Но у кого и где? Сдать в ломбард? Смешно. А держать приобретения вблизи себя Шеврикука не видел резона. Чур их! Подальше их! Не его они, не его! А кого – он не знает! Два адреса среди прочих Шеврикука все же выделил. Но после размышлений дом мухомора с бородкой, ныне выдвиженца, Петра Арсеньевича, Шеврикука отклонил. Прежде он наследство бедолаги Пэрста-Капсулы (поутру Шеврикука как бы согласился с тем, что Пэрст – бедолага, жил отдельно, сам по себе) спрятал бы в доме Петра Арсеньевича. Но теперь гордыня остановила его.
Оставалось проникнуть в Дом Привидений и Призраков.
Чтобы там не раскудахтались, не загремела посуда и не распустились возбужденные интересом уши, Шеврикуке пришлось выжидать удобные минуты. До полудня. После ночных трудов обитатели дома имели право вздремнуть – кто с храпом, а кто со свистом, и право это Шеврикука уважал.
Зимой привидения и призраки квартировали в Ботаническом саду, в Оранжерее, а в летние месяцы перебирались в Останкинский парк, под крышу лыжной станции или лыжной базы, что к западу от Потехинской церкви.
Лыжная база в Останкине, как вы знаете, на вид простой сарай, и не более того. Не дровяной, естественно, сарай, а протяженное сооружение, с украшениями из досок по фасаду, в начале века в нем могли бы содержать летательные аппараты Уточкина и Заикина. Но все равно сарай. Зимой там было шумно, пахло лыжной мазью и гуталином для тупоносых ботинок, но непременно и снегом, и ветром, наигравшимся в белых следах, и замерзшими лапами елок, а ближе к весне – и талой водой, и щеки милых лыжниц там розовели, и смех их звучал, и шел пар от титана с кипятком и серебристого бака с цикориевым кофе. Я более уважал снежные дороги в Сокольниках, но нередко бывал на лыжной станции и у себя, в Останкине.
А в апреле ее запирали на замок, и она впадала в летние сны. Это для людей. А привидения, призраки и иные личности, о которых здесь не время говорить, но, может, и придется, из Оранжереи, не скажу, что все с удовольствием, перебирались на лыжную базу. В свои Апартаменты. Работники, забредавшие летом в прохладные недра сарая, чтобы убедиться, все ли в порядке, ничего, кроме стеллажей со спортивным инвентарем и обувью, столбов со скамейками, не наблюдали. Все было в порядке, и, конечно, стоял в помещении неисчерпаемый и вкусно-черный запах лыжной мази. Лишь одной из уборщиц каждое лето мерещились в неосвещенньх углах мерцания шелковых платий и слышались дальние дивные голоса. Один из них как-то явственно пропел: «Было двенадцать разбойников и Кудеяр атаман». И смолк. Уборщица, докладывая о видениях, ни на чем никогда не настаивала, не просила о прибавке к зарплате, а только мечтательно улыбалась. Начальники ее ворчали, находя объяснения ее видениям в том, что вблизи лыж и ботинок завелась моль и порхает, или грызуны, или даже летучие мыши и надо принимать меры. Однако сезон следовал за сезоном, а дивные звуки слышались, и шелк шуршал и мерцал.
Шеврикука, если бы знал об этом, рассудил бы: раззявы и дуры ведут себя неопрятно, залезая в чужое пространство. Не мечтательную уборщицу имел бы он в виду, та лишь обладала тонкой восприимчивой натурой.
Теперь же Шеврикука путаными петлями шел к лыжной базе. Хвоста не вел. И никакая подозрительная трясогузка, или бабочка, или радиоуправляемая модель его не сопровождали. С северного бока сарая Шеврикукой третий год как была освобождена от гвоздей доска, в потайную щель, используемую им чрезвычайно редко, Шеврикука и прошмыгнул.
Ни единого звука он не издавал, не хотел, чтобы сегодня Горя Бойс знал о его посещении Дома, но уже в темени сырых пазов услышал:
– А-а! Да ведь это Шеврикука! А ну-ка пожалуй сюда!
– Да не ори ты! – рассердился Шеврикука. – Сейчас и подойду. Хоть и видеть твою рожу мне ни к чему. И не ори!
– Не будь пролазой! От дяди Гори Бойса все равно не уйдешь.
Из черноты надвинулся на Шеврикуку боевой стол на двух тумбочках и в шаге от Шеврикуки надменно замер. За столом, под канцелярской лампой, сидел взаимоуважающий соблюдатель Бойс, тощий, но притом пухлощекий, в валенках, в ватных штанах, пребываемых на теле Бойса в режиме подтяжек.
– Кто пролаза? Чего ты сам-то стену таранишь! Сиди и сиди у своих врат!
– Отчего здесь в неотведенный час?
– Я больной. Болею болезнью, – сказал Шеврикука. – На больничном.
– Предъявляй лист.
Шеврикука протянул бумагу из калекопункта.
Соблюдатель Бойс снял очки. Смастерил он их из фанеры и казнил ими мух. Явилась муха, он ее прибил. Прилетела вторая, эту Бойс почесал и шлепком направил жить дальше.