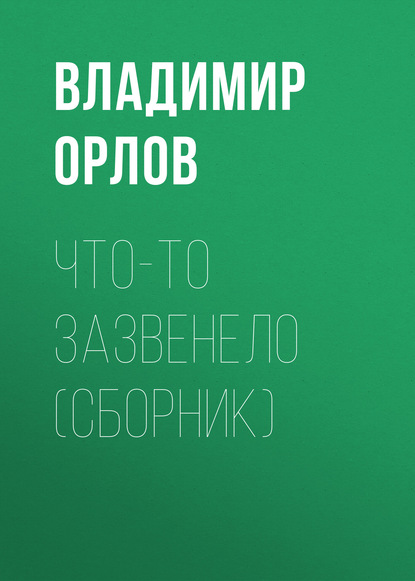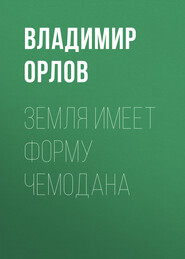По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Что-то зазвенело (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Неужели вы никогда не любили? – взволнованно спросил Иван Афанасьевич.
– Отчего же? Любил. И теперь, в некотором роде… Птицу любил. У купца Тихонова в огороде. Долго любил. Птицу павлин. Вот с такими перьями. Бывало, голову повернет – а у меня цыпки по коже. А уж когда сварили ее, плакал… Теперь скульптуру люблю.
– Какую, простите, скульптуру? – удивился Иван Афанасьевич.
– Гипсовую. Раньше мрамором увлекался, а теперь гипсом. Мраморные – они высокомерные и не для всех. Оттого и носы у них бьют. Сам я одной, знаете… А гипсовые и материалом проще и доступнее, – тут Георгий Николаевич отчего-то засмущался, голову наклонил и, может, не хотел слово выпустить, да не удержался: – Я ведь все время к одной хожу… Знаете, в Останкинском парке возле водяной карусели моя симпатия и стоит. Женского полу. С лещом под мышкой и вот тут. Я ее Гретой зову…
Он замолчал, был размягчен, видно, желал тут же к Грете и пойти.
– Отчего же вы думаете, – спросил Иван Афанасьевич, – что живые – они хуже гипсовых?
– А оттого, – возмущенно заявил Георгий Николаевич, – а оттого, что не гипсовые!
Ивану Афанасьевичу бы понять, что Георгий Николаевич может сейчас обидеться всерьез, а он и сам, на свою беду, разгорячился. Сказал:
– Нет, вы не правы, Георгий Николаевич!
– Ну конечно, куда нам! Это вы всегда тонкостью славились. Только не думаю, что моя Грета хуже вашей… этой… живой… Да ведь нам и нельзя их любить по закону!.. Вы что, ошалели?..
Тут сразу же возле табурета возникла тишина. И надолго. Потом Георгий Николаевич отлил себе в глотку виски и спросил:
– Ну а я тут при чем?
– Она из вашего дома, Георгий Николаевич…
– Из моего? – поперхнулся Георгий Николаевич. – Да в моем доме одни криворылые и придурковатые! Это в вашем доме кое-кто есть, у вас там и двери под дуб, и ручки металлические, а у меня все дрянь… Кто же это?
Не хотел уже, ох как не хотел Иван Афанасьевич открывать имя своей прелестницы, этой ли грубой скотине слышать милое ее имя, но что ему оставалось делать?
– Екатерина Ивановна, – сказал он воздушно.
– Ковалевская? С пятого этажа! Из тридцать восьмой квартиры? – загоготал Георгий Николаевич. – Катька! Так ведь она мужа бьет!
– То есть как? – опешил Иван Афанасьевич.
– А так… Вы-то небось думаете, что она нимфа, а она мужа бьет… Как он только с Калядиным выпьет, так она его и бьет. Чем ни попадя!
– Ну и что? – надменно спросил Иван Афанасьевич.
– А то… А то, что моей Грете ваша Катька и в качестве леща в подмышку не годится! Вот что!
– Я прошу вас взять свои слова обратно, – глухо сказал Иван Афанасьевич.
– И не подумаю.
– Ну тогда я скажу, что ваша Грета наверняка создание какого-нибудь бездарного халтурщика и место ей на помойке.
– Еще одно такое слово, и в квартире вашей так называемой Екатерины Ивановны я все заражу паршой. Мой дом? Мой! Серебряные ложки станут у нее пропадать! И постельное белье тоже!
– Вы меня знаете, я безрассудный, – тихо сказал Иван Афанасьевич, – я ведь возьму у водопроводчика разводной ключ и всю вашу Грету по частям сброшу в пруд.
Каким уж невоспитанным считался Георгий Николаевич, а тут сразу взял себя в руки. Обнял Ивана Афанасьевича за плечи и сказал:
– Да что это мы с вами из пустяков бой затеяли!..
– Для меня это не пустяки… Однако и я не собирался вас обижать… Ведь я даже хотел снять металлические ручки с моих дверей и обменять на ваши пластмассовые… Раз они вам так нравятся… Если бы пошли мне навстречу…
– Да пожалуйста! Только ведь я… – и тут Георгий Николаевич снова захохотал.
Он долго хохотал, слезы с глаз смахивал, наконец успокоился.
– Да ведь я почему смеюсь, – сказал Георгий Николаевич, – потому что мне вас жалко. Вы что, ослепли?
– Я вас прошу, Георгий Николаевич…
– Она ведь и за квартиру не платит вовремя… Она ведь и над соседом-пенсионером танцует после одиннадцати в тяжелых туфлях, когда гости…
– Замолчите, Георгий Николаевич, или я…
– Да это что! У нее, у Катеньки вашей, – не мог уже остановиться Георгий Николаевич, но перешел почему-то на шепот, и от шепота этого все зашипело в коридоре, – у нее зуба нет. Ей-богу. Коренного, четвертого сверху, с правой стороны.
От кощунства этого, от этого неприличия все задрожало в Иване Афанасьевиче, и, как был он рыцарь, так и схватил тяжелый табурет, не расплескав виски, и прибил Георгия Николаевича к полу. Сбежались домовые, корили Ивана Афанасьевича, подставив эмалированный таз, кровь кухонным ножом пустили несчастному Георгию Николаевичу, волосы прижигали ему на затылке каленым железом, уши ему продували дымом. И привели страдальца в чувство. Георгий Николаевич поднял пудовые веки и тут же стал отчаянно ругаться по-матерному. Потом он вспомнил и все резкие татарские слова, какие знал от дворников. Ему стало легче, и тогда он написал проклятие Ивану Афанасьевичу и заявление в товарищеский суд.
Разбитый и печальный лежал Иван Афанасьевич в кольцах под лифтом. «Ах, зачем, зачем затеял я этот разговор, – думал он. – Любил бы ее тихо, и все тут… А теперь как бы и Екатерине Ивановне худо не было. Вдруг и впрямь станет у нее пропадать постельное белье… Нет-нет, он на это не пойдет, не посмеет…» При этом Иван Афанасьевич жалел сейчас Георгия Николаевича. А сам себе был неприятен. Мерзок даже был. Он вспоминал свои коридорные слова, и все они казались ему дурными и недостойными. А уж то, что высмеивал Грету, было и вовсе постыдно – отчего же отказывать Георгию Николаевичу в сильном чувстве? К утру он все же заснул. И сразу же ему приснился ранимый Велизарий Аркадьевич из особняка в стиле «модерн». Был он гипсовый и голый и походил на Грету. Велизарий Аркадьевич упал на колени перед Иваном Афанасьевичем, обхватил голову руками и сказал кротко: «Ах, не бейте меня, Иван Афанасьевич, тяжелым табуретом. Потому что все во мне целиком от высокой духовности». – «Ну что вы, что вы, зачем мне, – растерялся Иван Афанасьевич, – разве я злодей какой?» И тут он проснулся в холодном поту.
Он сразу же выбежал во двор. Люди расходились на службы, и Екатерина Ивановна полосатым ангелом уплывала к своим колбочкам и пробиркам. Иван Афанасьевич чуть ли не плакал – кто знает, может, он видел ее в последний раз. Екатерина Ивановна шла, шла и обернулась.
6
Вечером был товарищеский суд. С заседателями. С графином на бильярдном сукне. Все как у людей. И суд-то был распущен до сентября на летние каникулы, однако собрался. Заседателями уселись – древний и жизнерадостный нахал Василий Михайлович и застенчивый Велизарий Аркадьевич, который отчего-то пришел босым и в тунике от Айседоры Дункан. Председателем же по справедливости стал геройский Артем Лукич. Иван Афанасьевич всем им сочувствовал, он сам, случалось, попадал и в присяжные, и в заседатели, и сам тосковал на казенном кресле с высокой спинкой. Он и всем собравшимся сочувствовал, все они были домовые неплохие, либеральные и отчасти прогрессивные, однако стоило им начать вместе обсуждать кого-то или судить, так сразу же черт знает что с ними происходило. И потом, остыв, все они, да и сам Иван Афанасьевич, вспоминая свои слова, каялись и страдали. И давали обещания: в последний раз! Да что было толку!
Иван Афанасьевич терпел и речи и показания свидетелей. Все ему удивлялись, разводили руками: «Ну, знаете ли, Иван Афанасьевич!» Из-за его страсти все глядели на него так, будто он, не подумав, принял мусульманскую веру. Даже шалопаи, уж на что были легки и свободны в мыслях, а и те говорили о нем с укоризной. Понять они его не могли, женщин презирали, а увлекались исключительно испанским певцом Рафаэлем. Словом, вышел Ивану Афанасьевичу полный конфуз. «Только про нее не говорите, только про нее не надо, – молил Иван Афанасьевич, – имя ее не марайте…» Облегчение он получил, когда Василий Михайлович, забыв о Екатерине Ивановне, обрушился на него за использование табурета.
– Экий вы сорванец! – сказал Василий Михайлович. – Размахались… И не жалко?.. Ведь сколько в этом табурете добра!.. Ежели перегнать да очистить…
Держа в руке приговор, Артем Лукич принялся сокрушаться как ласковый, но строгий отец:
– Что же вы, Иван Афанасьевич, разве на нашей кухне-коммуне кто-нибудь мог вот эдак?.. Ай-яй-яй…
В приговоре вместе с безобразиями Ивана Афанасьевича перечислялись и его заслуги. За драку в общественном месте ему было наказано три лунных месяца на собрание домовых приходить непременно двадцать вторым. Но драка была сосчитана мелочью, а вот женщина всех расстроила. В связи с нарушением лешачьих заповедей Ивану Афанасьевичу было запрещено смотреть на смутившую его женщину, тем более что она была из чужого строения. В случае нового нарушения запрета Ивану Афанасьевичу грозило переселение с позором в деревянный одноэтажный дом у платформы Северянин, не подлежащий сносу.
– Подлежащий сносу, – предложил Федот Сергеевич.
Артем Лукич остановился и, как показалось Ивану Афанасьевичу, взглянул на Константина Игнатьевича с Таганки. Тот сидел, как всегда, тихо, права голоса не имел и никакого движения не сделал. Артем Лукич подумал и сказал:
– Правильно. Подлежащий сносу. Чтоб мог вернуться в большую жизнь. Но без телевизора.
Все сразу зашумели. Представили: взглянет Иван Афанасьевич раз на женщину и – на тебе! – не увидит первенства мира по хоккею и не услышит вдохновений Г. Саркисьянца – разве это не жестоко?