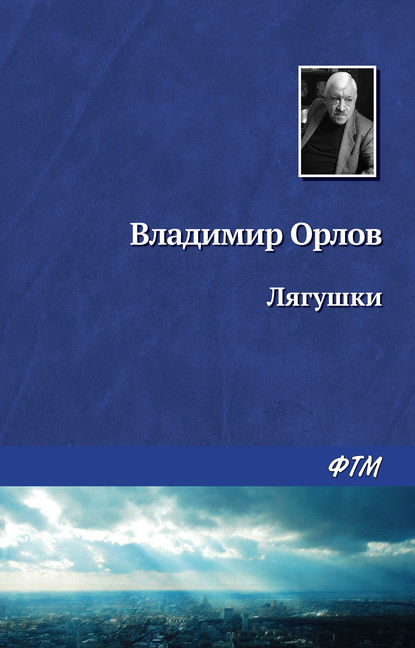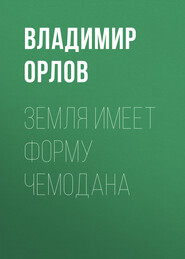По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лягушки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– На кухне… – пробормотал Ковригин.
– Ну хотя бы и на кухне! – вскричала Лоренца. – Ну хотя бы и в этом скособоченном сараюшке! Хотя бы и рядом с газовой плитой! И выставляй обещанные напитки!
– Вы же… ты же за рулем! – встрепенулся Ковригин. – А Дувакин ждет к вечеру.
– Не бери в голову! – захохотала Лоренца.
И действительно, в голову в ближайшие часы Ковригин ничего не брал, если не считать закусок и напитков. К коньяку и ликеру, пошедшим в сопроводители моллюсков, неизвестно зачем преодолевших Оку (поездом, что ли?) и поперших через ковригинский садогород на Москву, был вынут из морозилки и литровый «Кузьмич», из-за чего предстояло пострадать бедолаге Рубенсу.
В холодильнике Ковригина не нашлось лимона, что Лоренцу расстроило. Впрочем, по её вкусам, к улиткам первым делом требовались сливочное масло и укроп, масло имелось, охапку же укропа доставили с грядки. Не лишними оказались майонез и уксус. Порадовала Лоренцу и предоставленная ей серебряная ложка, пусть и чайная. В соус Лоренца определила два сырых яйца, слава Богу, коробка яиц была закуплена накануне, «Ради опыта, – приговаривала Лоренца, взбалтывая яйца, – ради опыта!» Ну, ради опыта так ради опыта, нам не жалко…
И началось пиршество. То есть пировала Лоренца, с шумом, с восторгами, а Ковригин, хотя и попивал (под грибы), сидел при ней наблюдателем. А когда Лоренца, отлучив от дел серебро, схватила нож и столовую ложку и ими стала добывать деликатес, а потом и с неким хлюпающим звуком вычмокивать остатки улиток из раковин, Ковригин не выдержал и сварил молочные сосиски, показавшиеся ему, впрочем, отвратительными. Отвращение пришлось снимать полным стаканом «Кузьмича». Лоренца же, может, из-за Кузьмича, а может, и по какой иной причине, несмотря на её чмоканья, отвращения у него не вызывала. Напротив… Женщина сидела рядом с ним своеобычная. Очень может быть, что и своевольная. А это Ковригину было по душе. Расцветка её (зелеными были не только глаза Лоренцы, кстати, они лишились полнолунной круглости, по хотению Лоренцы или сами по себе, но зелёными были и её ресницы, брови углом, тени на веках, помада на чуть припухлых губах жаждущего рта, «да он расходится у неё дальше ушей…») сейчас нисколько не раздражала и не удивляла его. Виделась она азартным животным, самкой несомненной, скорее всего из хищников. В своем чавкающем удовольствии и урчании она не только не порождала в Ковригине неприятные чувства и тем более – позывы к тошноте, а, пожалуй, даже радовала его и вызывала возбуждение, напоминавшее о том, что и он самец.
– Ах! Все! – вырвалось из Лоренцы, и отрыжка заполненных желудка и пищевода подтвердила её удовлетворенное ходом жизни состояние. Она живот погладила, крякнула и, снова не сдержав отрыжки, произнесла: – А ты, Ковригин, халтурщик…
– То есть как? – удивился Ковригин. – Почему я халтурщик? И в каком смысле?
Лоренца зевнула. Сказала:
– Небо затягивает. И холодает. Как бы заморозки не случились. Ты бы печку протопил.
– Протоплю, – хмуро сказал Ковригин. – Хотя и не вижу в этом нужды. Так почему я халтурщик?
– О Рубенсе сочиняешь. В компьютер перегоняешь текст. А у самого на столе книги разложены и тетради с выписками из других книг. То есть ты обыкновенный компилятор. Сдираешь у других.
– Ты недавно в журнале?
– Ну, типа того…
– Ты о Рубенсе слышала?
– Слышала, слышала… У меня у самой… В одном из домов висит Рубенс… «Леда и лебедь»…
– Тот, что ещё вчера висел в Дрездене?
– В Дрездене – копия! – возмутилась Лоренца. – У меня оригинал.
– Ну, понятно, – кивнул Ковригин. – Поздравляю Дрезден. А об открытии Америки ты что-нибудь знаешь?
– Ну, знаю, знаю… – капризно произнесла Лоренца, будто отмахиваясь от Ковригина. – Училась не в самом худшем вузе. Колумб там и тра-та-та…
– Судя по твоему выговору, училась ты в Сорбонне. Или в Гейдельберге. Так надо понимать.
– Увы, Сашенька, училась я на станции Трудовая Савёловской железной дороги. Во Всероссийском институте Коневодства, в народе – ВГИК.
– А я по бабке с дедом – яхромский! – обрадовался Ковригин. – От Трудовой километров десять к северу. А ты, стало быть, внучка маршала авиации. В Трудовой – их дачи.
– Ну, типа того, – икнула Лоренца. – Ты дрова для печки волоки.
– Чего же ты не приехала ко мне на кобыле или хотя бы на белом коне?
– Кобылы курьерам не положены, – сказала Лоренца.
– Каким курьерам? – удивился Ковригин.
– Не бери в голову, – сказала Лоренца. – Беги в сарай за дровишками.
Ковригин сбегал. Лоренца перешла в дом, к печке, прихватила с собой бутылку коньяка «Золото Дербента» и, зажав ноздри пальцами, боролась теперь с икотой.
– У тебя только одна комната будет прогрета, – сказала Лоренца. – А в ней один приличный диван. Придется тебе спать на полу у печки. Или со мной на диване. Если не побрезгуешь.
– Посмотрим, – проворчал Ковригин. – А что это ты зажимаешь ноздри?
– Задерживаю дыхание. До двадцати двух. И икота обязана пропасть. Или перейти на Федота. Совет тренера. Я ведь долго и всерьез занималась плаванием.
– Плавала, наверняка, брассом?
– Почему брассом? Кролем! Я крольчиха. Мы – братцы и сестры кролики.
– Ну значит, – сказал Ковригин, разжигая дрова, – Колумб там и тра-та-та? А дальше что?
– Колумб Америку открыл, чтоб доказать земли вращенье. И дальше – всякая чушь. Знаю, знаю, – поморщилась Лоренца, – вовсе он и не собирался открывать Америку, а из-за поганых турок, захвативших Константинополь с проливами, поперся в Индию обходным путем за какими-то пряностями и кореньями, то ли за гвоздикой или за ванилью, будто без них за столами был бы ущерб аппетитам…
– Бедный Колумб, – вздохнул Ковригин. – А он так и умер, не узнав, что «морем мрака» добрался не до Индии. Одна из радостей сухопутно-преклонных лет адмирала в Испании состояла в том, что ему дозволили передвигаться не на лошади, а на муле, его мучала подагра, и взбираться на мула было легче, да и трясло меньше. Королевские милости. Ты вот училась на коневода или на производителя колбасы «казы», а наверняка не знаешь, что в ту пору в этих двух Лже-Индиях лошади не водились.
– Не знаю, – зевнула Лоренца. – Может, и знала, но забыла… Ну и что?
– Да ничего, – сказал Ковригин.
– Спасибо за лекцию, – сказала Лоренца. – Ты меня занудил. И вроде бы захорошел, языком еле ворочал. А тут тебя понесло как по писанному. Чегой-то ты протрезвел? Под одеяло надо лезть. А ты полез на кафедру. К чему эта лекция?
«И действительно, – спохватился Ковригин. – Что это со мной? Ведь и вправду хорош был, а теперь как протертый тряпкой хрусталь. Неужели она меня так раззадорила и раздосадовала своим „халтурщиком“? Неужто меня так задело мнение какой-то заезжей Лоренцы Шинель?»
– Подожди с одеялом, – сказал Ковригин. – Печка должна отдать тепло. Ты меня сама завела. А с Рубенсом случай такой. Сложилось понятие «Нидерланды во времена Рембрандта». Нидерланды-то тогда процветали. А кто был Рембрандт? Никто. Поставшик товара для заполнения пустот на стене в доме бюргера. Кустарь из гильдии художников, многие члены которой, даже такие, как Хальс или Рейсдал, кончали жизнь в богадельнях. Маляр. Из тех, кого поджидали удобства долговой ямы. Ремесленник, ничем не значительнее кузнеца, красильщика тканей, и уж куда мельче сыродела или торговца тюльпанами. Это теперь мы охаем: Рембрандт, малые голландцы, миллионы долларов, нет им цены! А тогда была цена. Не дороже обоев. Понятно, я тут всё упрощаю… Рубенс был из Фландрии, Фландрия же входила семнадцатым штатом в Нижние земли. Что его подвигало в дипломаты, а по сути и в разведчики – тщеславие, желание вырваться из круга ремесленников в люди знатные, в аристократы, или жажда больших денег и большего почитания? Я пытаюсь понять и истолковать его жизнь, опять же по разумениям нынешнего московского обывателя, мне это необходимо… Может, для тебя это всё халтура, но иного я пока не умею… А для кого-то мои суждения могут оказаться и интересными… Впрочем, с чего бы и на какой хрен я вдруг принялся оправдываться перед тобой?
«Да ведь это не перед ней я оправдываюсь, – подумал Ковригин, – а перед самим собой… Она-то, поди, уже дремлет. Или даже дрыхнет. Эко я опасно и необъяснимо протрезвел. Фразы вывожу складно. Будто держу в голове всё своё сочинение. Нет, надо сейчас же обуздать себя „Кузьмичем“».
И взялся обуздывать.
– Оправдания твои были лишние, – услышал он, глаза Лоренцы были открыты. – А я о тебе знаю и нечто уважительное. Мне приходилось иметь дело с некоторыми твоими знакомыми.
Были перечислены эти знакомые. Имена их Ковригина не удивили. Однако упоминание Лоренцой одного из его приятелей Ковригина насторожило. И даже Ковригину показалось, что Лоренца вспомнила сейчас Лёху Чибикова не просто так, а с неким умыслом, словно знала нечто такое, что Ковригину не хотелось открывать ни ей, ни кому-либо другому. Или ждала от Ковригина вопроса, откуда она знает Чибикова и какой у неё к нему интерес.
Но Ковригин фамилию Чибикова будто бы не расслышал.
– Кстати, дорогой друг, Александр Андреевич, – спросила Лоренца, – а годов-то тебе сколько?
– Тридцать четыре, – сказал Ковригин. – Ну… тридцать пять скоро будет. А что?