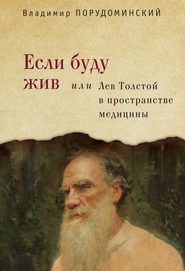По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Неисчерпаемость портрета. Жизнь художника Ивана Крамского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иван Крамской был внук писаря и сын писаря («письмоводителя», «журналиста») и сам едва ли не с детских лет пристроен по той же части («упражнялся в каллиграфии»); семья была причислена к местному мещанству.
Побеленная хата под соломой – четыре окна на улицу, плетень, огород, погреб, печь, горшки… Рано утром он открывает глаза: весело трещат охваченные пламенем поленья, мать с рогачом или кочергой в руках уже орудует у печи – новый день начинается (эта картинка – как образ наступающего дня – до конца жизни застрянет в памяти)…
За плетнем по улице казаки скачут, пригибаясь низко к шее коричневых коней, высокие черные шапки набок, тонкие черные, застегнутые у подбородка ремешки по щеке, длинные копья – из глины, рыжей как заря, мальчик лепит казака на коне (очень похож!); глины много над погребом.
Долгие вечера, оплывшая свеча, он сидит на лавке у стола, подперев кулачонками голову, читает вслух (стихи, повесть с продолжением в столичном журнале или, для матери, что-нибудь божественное) – в углах таится темнота, тревожит воображение.
Гитара на стене, потемневшая, цвета копченой рыбины; сосед играет на флейте, брат его, регент, на скрипке, Ваня тянет в хоре на клиросе – он находит в себе «страстную любовь» к музыке и пению.
Излюбленная старыми биографами сценка: мальчик Ваня Крамской прибежал на рассвете к знакомому, который пообещал ему настоящие краски – «мне ваши краски всю ночь не дали заснуть!» Он мечтает о живописи; роспись кладбищенской церкви, исполненная в былые времена под наблюдением некоего Величковского (за счет богатого пана ездил в Рим постигать искусство), представляется недосягаемым идеалом: «Боже мой! Если бы мне вполовину научиться так работать, я бы более ничего в мире не желал!» Иконописец, которому Ваня после долгих просьб отдан в науку, образа писать не учит, заставляет выполнять домашнюю работу – чинить плетень, копать огород, таскать с реки в погреб тяжелые бочки для соленьев («Не стану больше к нему ходить!» – Ваня как отрезал). Городской художник Петр Агеевич, прозябающий в бедности над вывесками, бродит по базару в опорках и халате; Ваню предостерегают: «Ты что, на Петра Агеевича хочешь походить!»
Но писарчонок Крамской оказался «кипящим внуком»; шестнадцатилетний юнец, он покидал «городок уединенный» с «жаждой воли и побед». Быть может, исконная вольница, миновав поколения строгих, степенно поджавших губы писарей, оживала в нем.
Странный случай: первая картина Крамского, известная по упоминаниям, – «Смерть Ивана Сусанина».
В дневнике Крамского имеется запись, сделанная перед отъездом: «В последний раз я вижу знакомые предметы: комнаты, мебель, гитару. Картины обвожу грустным взором; вот одна из них моей работы, «Смерть Ивана Сусанина». Как глубоко выражена на его лице последняя за царя молитва, тогда как полузамерзшие поляки занесли на него обнаженные сабли». Не сохранившееся, доморощенное полотно, кажется, почти «текстуально» соответствует строкам рылеевской думы. (В России имя Рылеева упоминать не дозволялось, но стихи его распространялись изустно.)
Зачем острогожскому подростку Крамскому погибающий Иван Сусанин? Почему не казак в высокой шапке, не сосед с флейтой, не богатый сад напротив, а в нем хозяйская дочь Машенька (была такая)? Или понадобился ему трагический сюжет, как понадобилась невиданная буря на Тихой Сосне, чтобы непривычным, возвышенным, грозным подстегнуть, вздыбить мерно катящееся отрочество?..
«Уличный мальчишка» из казачьей слободы Новая Сотня поплыл в широкое и бурное море, не вооруженный ни знанием, ни средствами, но с верой в свое предназначение: «Страшно мне в видимом мире, ужасно пройти без следа!» Он чувствовал в себе «великие силы», жаждал тернового венца и не желал «носиться вместе с толпой, пока зло упадет», не содеяв многого «силой своей». Его стихотворные строки неуклюжи и беспощадно искренни.
Он признавался – «мечтами жизнь моя полна». Не следует верить элегическому тону – мечты юноши дерзки.
Утром девятого ноября 1863 года Крамской шагает в Академию, чувствуя и сознавая, что жизнь его «полна значенья».
Сфинксы напрасно насмешничают…
Десять лет спустя Крамской будет рассуждать о свободе личности: свобода отдельного человека рождается при участии его в общем движении. «У личности есть общие видовые свойства, совершенно тождественные с таковыми же других личностей», но «личность вносит в общественную деятельность свою собственную манеру». Роль отдельных лиц умаляется с годами, подчас опровергается, вовсе забывается; след «собственной манеры», которую внесли они в общественную деятельность, порой смывается временем, на виду остается лишь направление движения. Но то и важно, что движение, в котором каждый из нас сознательно (свободно!) или не понимая этого участвует, бесконечно и неизбежно. Осознание неизбежности движения бесконечного и независимого есть уже приговор и твердыням и сфинксам.
Крамской спорит с Репиным, отстаивавшим тогда личную свободу художника от партий. «Я с тех пор, как себя помню, всегда старался найти тех, быть может, немногих, с которыми всякое дело, нам общее, будет легче и прочнее сделано… – объясняет Крамской. – Когда цели видны, когда инстинкт развился до сознания, нельзя желать оставаться одному, это, как религия, требует адептов, сотрудников».
К девятому ноября Крамской сам осознал и может открыть товарищам, сотрудникам, что нужно сегодня для дела, для искусства, для дела искусства (оборот делового и дельного века).
Сфинксы – гранитный, не порушенный, не источенный тысячелетиями, лишь исщербленный слегка знак власти и охранительства – улыбаются напрасно. Твердыня, ими охраняемая, простоит еще долго, будет рушиться незаметно, но девятого ноября 1863 года в десять часов утра начнется чтение приговора.
Однажды в письме к жене Крамской вспомнит детство: «Я помню живо то страшное время, когда, бывало, выходишь на экзамен – кровь в виски стучит, руки дрожат, язык не слушается, и то, что хорошо знаешь, точно не знаешь, а тут очки, строгие лица учителей… А в конце концов эти страдания: вырабатывают характер. Помню, как, бывало, у меня кулачонки сжимались от самолюбия, и я твердо решался выдержать и не осрамиться».
Рафаэль и коллежский асессор
– Что, батенька, ты нарисовал? Какой это следок?!
– Алексей Егорович, я не виноват, такой у натурщика…
– У него такой! Вишь, расплывшийся, с кривыми пальцами и мозолями! Ты учился рисовать антики? Должен знать красоту и облагородить следок…
Из воспоминаний Л. М… Жемчужникова
«Свободным художествам» – надпись на главном подъезде Академии. Парадная лестница, просторная, залитая холодной стеклянной прозрачностью, – петербургский проспект! – въезжай на экипаже шестернею. Парадный вестибюль – высота неоглядная, колонны поддерживают классических форм каменное небо. Галерея антиков мертвенно-белые от ровного, в два ряда окон спокойно втекающего света, застывшие в прекрасных, навсегда точно найденных позах фигуры.
Антики – Лаокоон, Гера, Аполлон; голова Лаокоона, ухо Геры, нос Аполлона.
Пособия по рисованию, изобретенные французским художником Жюльеном: дельно, удобно, раз-два, раз-два, с повторением упражнений рука словно бы сама, отрабатывает приемы – строевые занятая на бумажном плацу! Месяц-другой – рисуй, что хочешь: все гладко, похоже, все лишено самобытности оригинала, зато штрих, пунктир, мягкость, зато внешность! Ученик ведет изящный контур, в голову не приходит не по внешности – по существу сравнить рисунок с натурой, а если осенит ненароком, «то, скажет он, натура, а это искусство, которое призвано облагородить и усовершенствовать, и сглаживать шероховатости и углы, и прочая и прочая» – Крамского злили пособия Жюльена. Что-что, рисунок он понимал. Понимал, что характером самих линий можно дать глазу чувствовать жизнь и движение, что можно ощутительно передать относительную силу света и тени, выразить штрихом характерные стороны видимого предмета. Но он понимал с горечью, что можно и по Жюльену – рука движется сама, как заведенная: раз-два, чисто и правильно, словно заученные парадные приемы – четкие помахивания, подергивания в воздухе – вышедшей из боевого употребления шпажонкой.
Мимо застывших антиков, мимо роскошных, до каждого вершка хранимых в памяти копий с нетленных, как скрижали, полотен-образцов движется степенно Петр Михайлович Шамшин, профессор 1-й степени и полный генерал, из глубин мундирного золотого шитья выпускает в учеников важные истины:
– Историческая тема не может быть, изволите видеть, заключена в раму, имеющую более высоты, чем ширины…
– Располагайте группы только пирамидально…
Профессора, даровитые и бездарные, генеральственные и семейственно-простые, все как один, как Шамшин, как Басин, как Марков Алексей Тарасович, как Федор Антонович Бруни, ректор, все твердят заводной музыкальной машиной:
– Пуссена покопируйте, Рафа?эля («и странно, Пуссена рекомендовали непременно прежде Рафаэля» – приметил Крамской)…
– Проведите сначала красивую кривую линию, а фигуры располагайте по этой кривой…
– Главную фигуру не ставьте профилем!..
– Не ставьте фигуры задом!..
– Пятно прежде всего, изволите видеть, а в этом пятне воображайте себе фигуры…
– Пуссена, изволите видеть, покопируйте, Рафаэля…
Простодушный Алексей Тарасович Марков советовал и вовсе без церемоний:
– Покопируйте Пуссена, Рафаэля, меня, что ли…
Что ж! Покопируем Рафаэля, Пуссена, да и наши, Басин, Марков, Бруни Федор Антонович, ректор, хотя в чинах, и на слова не щедры, а все чему-нибудь да научат…
На крутых – полукругом – ступенях ученики сидят плотно, «как сельди в бочонке» (сравнение тогдашнего журналиста), – колени поджаты к лицу, спины колесом, локти стиснуты, концы папок и рисунков покоятся на плечах сидящих впереди. В центре полукруга – гипс или натурщик: к передним слишком близко, от задних далеко. Профессор (по ногам) пробирается к ученику, все встают, пропуская, – листы с рисунками мнутся, ломаются…
Освещение прескверное, воздух удушлив, но в тесноте не в обиде, и в духоте легче дышится, оттого что рядом, вдавившись в тебя острым плечом, сидит такой же нестриженный, с серым лицом, в поношенной, пропитанной запахом дурной пищи и бедных наемных комнат одежде – товарищ: «Оставалось товарищество – единственное, что двигало всю массу вперед, давало хоть какие-нибудь знания, вырабатывало хоть какие-нибудь приемы и помогало справляться со своими задачами», – напишет потом Крамской.
– Слишком много уже вторгается низменных элементов в искусство, – ворчит ректор Бруни.
Только ли о защите, о сбережении «высокого элемента» в живописи печется? Может быть, вот этот длинноволосый, небрежно одетый (старый вязаный шарф вокруг тощей шеи) – ишь, в парадном вестибюле растопырился со своею папкою, щурится, вымеряет что-то, держа перед собою в вытянутой руке карандашик, – может быть, вот этот «низменный элемент» среди подпирающих классический свод колонн раздражающе мозолит ректору глаз?..
А уже Федор ли Антонович Бруни не любит искусства, Федор Антонович, который с малолетства в живопись «душу положил»?.. Или гравер Федор Иванович Иордан, профессор (а после Бруни и ректор) – «имея уже 82 1/2 года от рождения», он просит всевышнего дать ему силы закончить новый труд «по любимому искусству гравирования на меди и стали»?.. Или профессор Марков Алексей Тарасович, учитель Крамского, – не он ли, перепоручая питомцу важную работу для храма Христа Спасителя, признается честно, что верит в питомца своего более, чем в себя («победителю-ученику от побежденного учителя»)?.. «Если бы вы знали, как некоторые наши старики профессора любят искусство. Например, тот же самый Иордан… А Марков? Боже мой, как они любили искусство! И если бы они знали, как я его люблю! Я так близок к ним в этом отношении… Но, разумеется, они меня скорее задушат, чем догадаются, что я истинный приверженец искусства с 63 года» – это ниспровергатель старого Крамской напишет еще более пылкому ниспровергателю – Стасову.
Ниспровергатель Крамской проводит грань между старым и новым, не на чувства поглядывая (любит – не любит!), – для него важно понимание (или ощущение) художником задач искусства: «Что такое художник? Часть нации, свободно и по влечению поставившая себе задачею удовлетворение эстетических потребностей своего народа».
Доброжелательный к питомцам, Алексей Тарасович Марков исполнил в молодости тему «Сократ перед кончиной беседует с учениками о бессмертии души». Крамской выбрал Маркова наставником, но простецкий Алексей Тарасович знал «высокое» из списка задаваемых тем и никогда не понимал бессмертия искусства, души искусства, в неизбежной смерти вчерашнего ради завтрашнего. Алексей Тарасович, усердный хлопотун, возникает в классах, машет руками – «Это не так… и это не так…», все ему давно известно, он набит Приамами, испрашивающими тело Гектора, христианскими мучениками в Колизее, Иосифами, братьями Иосифа, браками в Кане Галилейской, Олимпийскими играми; сам Карл Павлович, великий Брюллов, сказал о каком-то его эскизе: «Это все жевано и пережевано» – вот оно как обернулось бессмертие души, бессмертие искусства!..
Крамской вспоминает: «Я поступил в Академию в 1857 году… До вступления моего в Академию я начитался разных книжек по художеству: биографий великих художников, разных легендарных сказаний об их подвигах и тому подобное, и вступил в Академию как в некий храм, полагая найти в ее стенах тех же самых вдохновенных учителей и великих живописцев, о которых я начитался, поучающих огненными речами благоговейно внемлющих им юношей… На первых же порах я встретил вместо общения и лекций, так сказать, об искусстве одни голые и сухие замечания, что вот это длинно или коротко, а вот это надо постараться посмотреть на антиках, Германике, Лаокооне… Одно за другим стали разлетаться созданий моей собственной фантазии об Академии и прокрадываться охлаждение к мертвому и педантическому механизму в преподавании…»
У юноши, пришедшего постигать искусство, теснятся в голове собственные идеи, пьянящие фантазии, сердце горячо постукивает (вот сейчас примусь за что-нибудь этакое!) – и тут оказывается, что идеи, фантазии лучше оставить при себе: «Сочинять следует, как «Иосиф толкует сны хлебодару и виночерпию» или он же «продаваемый братьями», словом, то же, что всегда и везде от сотворения мира задается».
«Мне уже в то время казалось, – вспоминает и одновременно определяет пожизненную точку зрения, отсчета Крамской, – что сделать эскиз можно только тогда, когда в голове сидит какая-либо идея, которая волнует и не дает покоя, идея, имеющая стать впоследствии картиной, что нельзя по заказу сочинять когда угодно и что угодно».
Побеленная хата под соломой – четыре окна на улицу, плетень, огород, погреб, печь, горшки… Рано утром он открывает глаза: весело трещат охваченные пламенем поленья, мать с рогачом или кочергой в руках уже орудует у печи – новый день начинается (эта картинка – как образ наступающего дня – до конца жизни застрянет в памяти)…
За плетнем по улице казаки скачут, пригибаясь низко к шее коричневых коней, высокие черные шапки набок, тонкие черные, застегнутые у подбородка ремешки по щеке, длинные копья – из глины, рыжей как заря, мальчик лепит казака на коне (очень похож!); глины много над погребом.
Долгие вечера, оплывшая свеча, он сидит на лавке у стола, подперев кулачонками голову, читает вслух (стихи, повесть с продолжением в столичном журнале или, для матери, что-нибудь божественное) – в углах таится темнота, тревожит воображение.
Гитара на стене, потемневшая, цвета копченой рыбины; сосед играет на флейте, брат его, регент, на скрипке, Ваня тянет в хоре на клиросе – он находит в себе «страстную любовь» к музыке и пению.
Излюбленная старыми биографами сценка: мальчик Ваня Крамской прибежал на рассвете к знакомому, который пообещал ему настоящие краски – «мне ваши краски всю ночь не дали заснуть!» Он мечтает о живописи; роспись кладбищенской церкви, исполненная в былые времена под наблюдением некоего Величковского (за счет богатого пана ездил в Рим постигать искусство), представляется недосягаемым идеалом: «Боже мой! Если бы мне вполовину научиться так работать, я бы более ничего в мире не желал!» Иконописец, которому Ваня после долгих просьб отдан в науку, образа писать не учит, заставляет выполнять домашнюю работу – чинить плетень, копать огород, таскать с реки в погреб тяжелые бочки для соленьев («Не стану больше к нему ходить!» – Ваня как отрезал). Городской художник Петр Агеевич, прозябающий в бедности над вывесками, бродит по базару в опорках и халате; Ваню предостерегают: «Ты что, на Петра Агеевича хочешь походить!»
Но писарчонок Крамской оказался «кипящим внуком»; шестнадцатилетний юнец, он покидал «городок уединенный» с «жаждой воли и побед». Быть может, исконная вольница, миновав поколения строгих, степенно поджавших губы писарей, оживала в нем.
Странный случай: первая картина Крамского, известная по упоминаниям, – «Смерть Ивана Сусанина».
В дневнике Крамского имеется запись, сделанная перед отъездом: «В последний раз я вижу знакомые предметы: комнаты, мебель, гитару. Картины обвожу грустным взором; вот одна из них моей работы, «Смерть Ивана Сусанина». Как глубоко выражена на его лице последняя за царя молитва, тогда как полузамерзшие поляки занесли на него обнаженные сабли». Не сохранившееся, доморощенное полотно, кажется, почти «текстуально» соответствует строкам рылеевской думы. (В России имя Рылеева упоминать не дозволялось, но стихи его распространялись изустно.)
Зачем острогожскому подростку Крамскому погибающий Иван Сусанин? Почему не казак в высокой шапке, не сосед с флейтой, не богатый сад напротив, а в нем хозяйская дочь Машенька (была такая)? Или понадобился ему трагический сюжет, как понадобилась невиданная буря на Тихой Сосне, чтобы непривычным, возвышенным, грозным подстегнуть, вздыбить мерно катящееся отрочество?..
«Уличный мальчишка» из казачьей слободы Новая Сотня поплыл в широкое и бурное море, не вооруженный ни знанием, ни средствами, но с верой в свое предназначение: «Страшно мне в видимом мире, ужасно пройти без следа!» Он чувствовал в себе «великие силы», жаждал тернового венца и не желал «носиться вместе с толпой, пока зло упадет», не содеяв многого «силой своей». Его стихотворные строки неуклюжи и беспощадно искренни.
Он признавался – «мечтами жизнь моя полна». Не следует верить элегическому тону – мечты юноши дерзки.
Утром девятого ноября 1863 года Крамской шагает в Академию, чувствуя и сознавая, что жизнь его «полна значенья».
Сфинксы напрасно насмешничают…
Десять лет спустя Крамской будет рассуждать о свободе личности: свобода отдельного человека рождается при участии его в общем движении. «У личности есть общие видовые свойства, совершенно тождественные с таковыми же других личностей», но «личность вносит в общественную деятельность свою собственную манеру». Роль отдельных лиц умаляется с годами, подчас опровергается, вовсе забывается; след «собственной манеры», которую внесли они в общественную деятельность, порой смывается временем, на виду остается лишь направление движения. Но то и важно, что движение, в котором каждый из нас сознательно (свободно!) или не понимая этого участвует, бесконечно и неизбежно. Осознание неизбежности движения бесконечного и независимого есть уже приговор и твердыням и сфинксам.
Крамской спорит с Репиным, отстаивавшим тогда личную свободу художника от партий. «Я с тех пор, как себя помню, всегда старался найти тех, быть может, немногих, с которыми всякое дело, нам общее, будет легче и прочнее сделано… – объясняет Крамской. – Когда цели видны, когда инстинкт развился до сознания, нельзя желать оставаться одному, это, как религия, требует адептов, сотрудников».
К девятому ноября Крамской сам осознал и может открыть товарищам, сотрудникам, что нужно сегодня для дела, для искусства, для дела искусства (оборот делового и дельного века).
Сфинксы – гранитный, не порушенный, не источенный тысячелетиями, лишь исщербленный слегка знак власти и охранительства – улыбаются напрасно. Твердыня, ими охраняемая, простоит еще долго, будет рушиться незаметно, но девятого ноября 1863 года в десять часов утра начнется чтение приговора.
Однажды в письме к жене Крамской вспомнит детство: «Я помню живо то страшное время, когда, бывало, выходишь на экзамен – кровь в виски стучит, руки дрожат, язык не слушается, и то, что хорошо знаешь, точно не знаешь, а тут очки, строгие лица учителей… А в конце концов эти страдания: вырабатывают характер. Помню, как, бывало, у меня кулачонки сжимались от самолюбия, и я твердо решался выдержать и не осрамиться».
Рафаэль и коллежский асессор
– Что, батенька, ты нарисовал? Какой это следок?!
– Алексей Егорович, я не виноват, такой у натурщика…
– У него такой! Вишь, расплывшийся, с кривыми пальцами и мозолями! Ты учился рисовать антики? Должен знать красоту и облагородить следок…
Из воспоминаний Л. М… Жемчужникова
«Свободным художествам» – надпись на главном подъезде Академии. Парадная лестница, просторная, залитая холодной стеклянной прозрачностью, – петербургский проспект! – въезжай на экипаже шестернею. Парадный вестибюль – высота неоглядная, колонны поддерживают классических форм каменное небо. Галерея антиков мертвенно-белые от ровного, в два ряда окон спокойно втекающего света, застывшие в прекрасных, навсегда точно найденных позах фигуры.
Антики – Лаокоон, Гера, Аполлон; голова Лаокоона, ухо Геры, нос Аполлона.
Пособия по рисованию, изобретенные французским художником Жюльеном: дельно, удобно, раз-два, раз-два, с повторением упражнений рука словно бы сама, отрабатывает приемы – строевые занятая на бумажном плацу! Месяц-другой – рисуй, что хочешь: все гладко, похоже, все лишено самобытности оригинала, зато штрих, пунктир, мягкость, зато внешность! Ученик ведет изящный контур, в голову не приходит не по внешности – по существу сравнить рисунок с натурой, а если осенит ненароком, «то, скажет он, натура, а это искусство, которое призвано облагородить и усовершенствовать, и сглаживать шероховатости и углы, и прочая и прочая» – Крамского злили пособия Жюльена. Что-что, рисунок он понимал. Понимал, что характером самих линий можно дать глазу чувствовать жизнь и движение, что можно ощутительно передать относительную силу света и тени, выразить штрихом характерные стороны видимого предмета. Но он понимал с горечью, что можно и по Жюльену – рука движется сама, как заведенная: раз-два, чисто и правильно, словно заученные парадные приемы – четкие помахивания, подергивания в воздухе – вышедшей из боевого употребления шпажонкой.
Мимо застывших антиков, мимо роскошных, до каждого вершка хранимых в памяти копий с нетленных, как скрижали, полотен-образцов движется степенно Петр Михайлович Шамшин, профессор 1-й степени и полный генерал, из глубин мундирного золотого шитья выпускает в учеников важные истины:
– Историческая тема не может быть, изволите видеть, заключена в раму, имеющую более высоты, чем ширины…
– Располагайте группы только пирамидально…
Профессора, даровитые и бездарные, генеральственные и семейственно-простые, все как один, как Шамшин, как Басин, как Марков Алексей Тарасович, как Федор Антонович Бруни, ректор, все твердят заводной музыкальной машиной:
– Пуссена покопируйте, Рафа?эля («и странно, Пуссена рекомендовали непременно прежде Рафаэля» – приметил Крамской)…
– Проведите сначала красивую кривую линию, а фигуры располагайте по этой кривой…
– Главную фигуру не ставьте профилем!..
– Не ставьте фигуры задом!..
– Пятно прежде всего, изволите видеть, а в этом пятне воображайте себе фигуры…
– Пуссена, изволите видеть, покопируйте, Рафаэля…
Простодушный Алексей Тарасович Марков советовал и вовсе без церемоний:
– Покопируйте Пуссена, Рафаэля, меня, что ли…
Что ж! Покопируем Рафаэля, Пуссена, да и наши, Басин, Марков, Бруни Федор Антонович, ректор, хотя в чинах, и на слова не щедры, а все чему-нибудь да научат…
На крутых – полукругом – ступенях ученики сидят плотно, «как сельди в бочонке» (сравнение тогдашнего журналиста), – колени поджаты к лицу, спины колесом, локти стиснуты, концы папок и рисунков покоятся на плечах сидящих впереди. В центре полукруга – гипс или натурщик: к передним слишком близко, от задних далеко. Профессор (по ногам) пробирается к ученику, все встают, пропуская, – листы с рисунками мнутся, ломаются…
Освещение прескверное, воздух удушлив, но в тесноте не в обиде, и в духоте легче дышится, оттого что рядом, вдавившись в тебя острым плечом, сидит такой же нестриженный, с серым лицом, в поношенной, пропитанной запахом дурной пищи и бедных наемных комнат одежде – товарищ: «Оставалось товарищество – единственное, что двигало всю массу вперед, давало хоть какие-нибудь знания, вырабатывало хоть какие-нибудь приемы и помогало справляться со своими задачами», – напишет потом Крамской.
– Слишком много уже вторгается низменных элементов в искусство, – ворчит ректор Бруни.
Только ли о защите, о сбережении «высокого элемента» в живописи печется? Может быть, вот этот длинноволосый, небрежно одетый (старый вязаный шарф вокруг тощей шеи) – ишь, в парадном вестибюле растопырился со своею папкою, щурится, вымеряет что-то, держа перед собою в вытянутой руке карандашик, – может быть, вот этот «низменный элемент» среди подпирающих классический свод колонн раздражающе мозолит ректору глаз?..
А уже Федор ли Антонович Бруни не любит искусства, Федор Антонович, который с малолетства в живопись «душу положил»?.. Или гравер Федор Иванович Иордан, профессор (а после Бруни и ректор) – «имея уже 82 1/2 года от рождения», он просит всевышнего дать ему силы закончить новый труд «по любимому искусству гравирования на меди и стали»?.. Или профессор Марков Алексей Тарасович, учитель Крамского, – не он ли, перепоручая питомцу важную работу для храма Христа Спасителя, признается честно, что верит в питомца своего более, чем в себя («победителю-ученику от побежденного учителя»)?.. «Если бы вы знали, как некоторые наши старики профессора любят искусство. Например, тот же самый Иордан… А Марков? Боже мой, как они любили искусство! И если бы они знали, как я его люблю! Я так близок к ним в этом отношении… Но, разумеется, они меня скорее задушат, чем догадаются, что я истинный приверженец искусства с 63 года» – это ниспровергатель старого Крамской напишет еще более пылкому ниспровергателю – Стасову.
Ниспровергатель Крамской проводит грань между старым и новым, не на чувства поглядывая (любит – не любит!), – для него важно понимание (или ощущение) художником задач искусства: «Что такое художник? Часть нации, свободно и по влечению поставившая себе задачею удовлетворение эстетических потребностей своего народа».
Доброжелательный к питомцам, Алексей Тарасович Марков исполнил в молодости тему «Сократ перед кончиной беседует с учениками о бессмертии души». Крамской выбрал Маркова наставником, но простецкий Алексей Тарасович знал «высокое» из списка задаваемых тем и никогда не понимал бессмертия искусства, души искусства, в неизбежной смерти вчерашнего ради завтрашнего. Алексей Тарасович, усердный хлопотун, возникает в классах, машет руками – «Это не так… и это не так…», все ему давно известно, он набит Приамами, испрашивающими тело Гектора, христианскими мучениками в Колизее, Иосифами, братьями Иосифа, браками в Кане Галилейской, Олимпийскими играми; сам Карл Павлович, великий Брюллов, сказал о каком-то его эскизе: «Это все жевано и пережевано» – вот оно как обернулось бессмертие души, бессмертие искусства!..
Крамской вспоминает: «Я поступил в Академию в 1857 году… До вступления моего в Академию я начитался разных книжек по художеству: биографий великих художников, разных легендарных сказаний об их подвигах и тому подобное, и вступил в Академию как в некий храм, полагая найти в ее стенах тех же самых вдохновенных учителей и великих живописцев, о которых я начитался, поучающих огненными речами благоговейно внемлющих им юношей… На первых же порах я встретил вместо общения и лекций, так сказать, об искусстве одни голые и сухие замечания, что вот это длинно или коротко, а вот это надо постараться посмотреть на антиках, Германике, Лаокооне… Одно за другим стали разлетаться созданий моей собственной фантазии об Академии и прокрадываться охлаждение к мертвому и педантическому механизму в преподавании…»
У юноши, пришедшего постигать искусство, теснятся в голове собственные идеи, пьянящие фантазии, сердце горячо постукивает (вот сейчас примусь за что-нибудь этакое!) – и тут оказывается, что идеи, фантазии лучше оставить при себе: «Сочинять следует, как «Иосиф толкует сны хлебодару и виночерпию» или он же «продаваемый братьями», словом, то же, что всегда и везде от сотворения мира задается».
«Мне уже в то время казалось, – вспоминает и одновременно определяет пожизненную точку зрения, отсчета Крамской, – что сделать эскиз можно только тогда, когда в голове сидит какая-либо идея, которая волнует и не дает покоя, идея, имеющая стать впоследствии картиной, что нельзя по заказу сочинять когда угодно и что угодно».