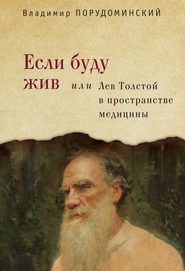По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Что есть истина?» Жизнь художника Николая Ге
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В. В. Стасов, приведя мнение Ге, тут же начинает доказывать, что оно случайно. Стасов припоминает, что в частных беседах «с близкими людьми» Ге отзывался об ивановской картине «с уважением и любовью». Кроме того, указывает Стасов, в списке произведений против одной из работ, написанных вскоре после знакомства с «Явлением Мессии», Ге собственноручно пометил: «Под влиянием Иванова».
Не будем принимать чью-либо сторону в этом странном заочном споре. Ограничимся лишь предположением, что Ге, человек порывистый, человек настроения, мог в разное время по-разному отзываться о картине Иванова, а Стасов, в свою очередь, мог не знать всех суждений Ге, высказанных в частных беседах с близкими людьми. Что же касается «роковой» пометы, то сама мысль, будто художник подражает лишь произведениям, вызвавшим в нем восторг, требует, пожалуй, доказательств. Ге, сидя в Италии, не подражал, к примеру, Микеланджело, а вот Бруни, о котором молодой художник высказывался весьма иронически, явно проглядывает хотя бы в той же «Смерти Виргинии».
Даже если полотно Иванова при первом знакомстве показалось Ге «запоздавшим», то это вовсе не означает, что личность Иванова, его творчество, его замыслы и пути их исполнения не произвели впечатления на человека, ищущего своей дороги в искусстве. Чтобы отказаться, надобно прежде на себе примерить. Вот Ге и «примеряет» Иванова – убежденно и бессознательно. И не в одной работе, упомянутой Стасовым, но также в пейзажах, в некоторых этюдах и рисунках. Влияние Иванова на Ге, быть может, вообще куда более сложно, чем представляется на первый взгляд. Параллели опасны, поэтому только упомянем об ивановских акварелях 50-х годов, таких, как «Пилат спрашивает Иисуса: «Откуда ты?» или «Члены синедриона издеваются над Иисусом».
Для нас важно, что после знакомства с «Явлением Мессии» Ге, по собственному его признанию, начинал что-то под влиянием Иванова. Он еще переимчив. Зато Иванов помог ему «освобождаться» от Брюллова. После «Явления Мессии» Ге замечает холодность брюлловского совершенства. Иванов писал о Брюллове из Рима: «Его разговор умен и занимателен, но сердце все же, так же испорчено…» Не будем разбираться в том, насколько справедлива эта характеристика. Обратим лишь внимание на разницу внешнего и внутреннего в Брюллове, подмеченную Ивановым, искреннейшим художником и, по свидетельству современников, человеком «с чистой младенческой душой».
Иванов помог Ге находить «фразы» у любимого Брюллова. Именно в этом плане Ге сопоставит Брюллова с Ивановым: искренне религиозный Иванов не мог писать образа, а равнодушный в вопросах веры Брюллов охотно их писал («и этим доказал свою слабость в этом жанре»). У двух великих художников своего времени Ге почувствовал разные взаимоотношения с Гекубой.
Ге понял: чтобы найти себя, мало познать брюлловскую тайну совершенной формы. Он понял: лишь осмысляя по-своему тысячелетний сюжет, Иванов стал независимым и неповторимым.
И еще одна особенность встречи Ге с Ивановым. Начинающий академический пенсионер пришел к художнику, подводящему итоги творческой жизни, без остатка отданной достижению одной цели. Казалось, Ге должен был увидеть удовлетворенность, успокоенность художника, завершавшего жизненный подвиг, но перед ним стоял человек смятенный, по-прежнему мучительно ищущий, тревожно вопрошавший себя, как бьггь дальше. А онто, Ге, полагал по наивности, что до конца его собственных поисков рукой подать!.. Уже на закате жизни Ге скажет об Иванове: сплошное страдание, сплошное мучение, отыскивание, недовольство тем, что найдено, полное разочарование в конце работы, вечная борьба душевных стремлений с тем, что давала школа и жизнь.
Скромная помета на небольшом (43x54,2) эскизе 1859 года – «Под влиянием Иванова» – дорого стоит.
В конце августа 1857 года Иванов ездил в Лондон к Герцену – в те же дни, когда о таком путешествии начал мечтать Ге.
Можно предположить, что Иванов и Ге говорили о Герцене: слишком большое впечатление произвело на Иванова свидание в Лондоне, слишком интересовало Ге все, что связано с Герценом.
Беседа Иванова с Герценом касалась вопросов, в то время еще не вполне занимавших Ге, но скоро ставших основной проблемой всего его творчества. Иванов говорил, что утратил религиозную веру, которая облегчала ему работу, оттого мир души расстроился; он просил – укажите новые идеалы, новую веру,
– Конечно, христианская живопись не вдохновит больше, – отвечал Герцен, – но ведь поэтический элемент и, главное, драма присущи всем эпохам. Не есть ли задача художника схватить самый полный, страстный момент катастрофы. Поэтических и притом трагических элементов и в современном брожении бездна. Чем кровнее, чем сильнее вживается художник в скорби современности – тем сильнее они выразятся под его кистью. Ищите новые идеалы в борьбе человечества за свободу, тут тоже есть и жертвы, и мученики.
А Ге все-таки пойдет по-своему: схватит самый страстный момент катастрофы и попробует передать в евангельской теме «скорби современности».
В голубой гостиной
Он поселился с семьей во Флоренции,
Где-то между собором Санта Мария дель Фьоре с «Положением во гроб» Микеланджело и церковью Санта Мария Новелла с фресками Гирландайо, между Санта Кроче с расписанными Джотто капеллами Барди и Перуцци и монастырем Сан Марко, расписанным Фра Анджелико, – где-то между творениями, на века запечатлевшими в камне и краске мысль, чувство и труд своих создателей, разместилась квартирка русского художника Николая Ге, о которой известно только, что в ней была гостиная, обитая голубым шелком.
В голубой гостиной было всегда полно народу – итальянцы, французы, русские. Здесь не жались по углам, не искали глазами знакомых, не представлялись чинно друг другу – здесь встречались без церемоний; гости не делились на постоянных и новичков – все равноправны; сюда являлись, когда хотели, и приводили приятелей – радушие хозяев было неистощимым.
Всякий салон имеет свое лицо. У Ге не слушали итальянских певиц, не играли в карты, не танцевали. У Ге говорили и спорили – об искусстве, о философии, о жизни. В голубой гостиной собирались те, кто умел серьезно говорить и остро спорить.
Здесь, во Флоренции, Ге открыл в себе и развил до совершенства талант оратора. Нет человека, который встречался с Ге и не был поражен его умением говорить, убеждать, доказывать. Восхищенные друзья именовали его пророком, недруги отзывались о нем неприязненно, как о фразере, но и те и другие подчеркивали захватывающую увлекательность его проповедей, блистательную отточенность оборотов речи, в споре – высокую технику шахматного виртуоза, умеющего неожиданными ходами захватить инициативу, разгромить противника, поставить мат. Ге был не просто оратор – он был полемист, «диалектик», как тогда называли. У Даля слово «диалектик» объяснено: «ловкий, искусный спорщик».
С годами он приобрел «чарующую» дикцию профессионала и постоянную уверенность, что его слушают, что внимают ему.
Ге даже внешне очень подходил для роли проповедника. Его красивое лицо было отмечено чертами благородства и силы. Величественная посадка головы. Крепкая, стройная фигура. В момент спора – страстная поза трибуна. И вместе с тем – располагающая доброта улыбки, глаз, задушевная мягкость жестов, как бы струящаяся от него готовность выслушать, понять, принять.
Его внешность часто называли апостольской. Этот эпитет употребляли даже художники – точность их наблюдений как будто не должна вызывать сомнений. (Впрочем, Мясоедов считал его темно-русым, а Репин – брюнетом.)
Его называли «апостолом», Репин писал, что от его внешности «веяло эпохой Возрождения», Нестеров в недоброжелательных записках именует его «архиереем». Все это черты одного образа, нужно только смыть эмоциональную окраску.
Известно, что страстного апостола Петра в «Тайной вечере» Ге писал с самого себя. Однако это не флорентийский Ге: апостол Петр много старше автора «Тайной вечери». В 1863 году Ге как бы провидел автопортрет 1893 года.
У Ге всю жизнь были своеобразные отношения с женщинами – душевные и нежные. Женщины тянулись к нему, охотно его слушали, были с ним доверчивы, горячо и преданно разделяли его мнения. Родственница, близко с ним знакомая, вспоминает: «У него всегда чувственности было очень мало. Он часто и прекрасно описывал красивых женщин, описывал живописно, ярко, но он относился к ним только как художник… Он мало знал женщин и не интересовался женской прелестью, а чем-то другим, когда писал их. Он испытывал, собственно, культ к прекрасным женщинам, но не любил их». Его могла воспламенить ложбинка над верхней губой или милая ямка на подбородке, но женщин, которые ему нравились, он называл «Беатричами»; в имени прекрасной возлюбленной Данте для нас звучит некоторая бесплотность. Женщины ценят чистоту обращенного к ним взгляда; они более чутки к проповеди – искренность для них важнее, чем 6езукоризненная правота.
…Ч т о они говорили, Ге и его знакомые, собираясь в уютной голубой гостиной?
Не будем задним числом сочинять диалоги. Все равно не воспроизведем теперь ни индивидуальных особенностей, ни пафоса их речей. А пафос был велик; не жалели, по свидетельству очевидца, «ни слов, ни порицаний, ни восторгов»; у Ге в пылу спора выразительно подергивалась правая щека, что придавало его доказательствам особую убедительность.
Однако можем определить круг политических тем, которые обсуждались. Догадываемся, о ч е м говорили.
Годы 1857—1863-й перенасыщены событиями. Обе страны – и та, в которой поселился Ге, и та, к которой были обращены его помыслы, – переживали бурное время.
Надо полагать, Ге был свидетелем восстания во Флоренции: 27 апреля 1859 года народ изгнал тосканского великого герцога Леопольда. Скоро настала очередь других герцогов – поднялись граждане Пармы и Модены. Ге наверняка был свидетелем знаменитых флорентийских демонстраций. Толпы шли по улицам, несли знамена с гербами городов. На шляпах у демонстрантов были прикреплены розовые таблички с лозунгом «Рим – столица Италии!». Разгоралась борьба за освобождение и воссоединение страны. Знаменитая «тысяча» Гарибальди отплыла из Генуи на помощь восставшим крестьянам Сицилии. Вся страна, затаив дыхание, следила за победным шествием гарибальдийцев: Палермо – Милаццо – Неаполь. Решающая победа при Вольтурно. Среди «красных рубашек» – солдат «тысячи» – были русские добровольцы. Нет, порывистый Николай Ге не примкнул к отряду свободы, которой всей душой сочувствовал. Он уезжал из Флоренции разве что на этюды в деревню. Видным гарибальдийцем был Лев Мечников, человек блистательной биографии, ученый, публицист, друг Герцена; впоследствии он окажется в числе посетителей голубой гостиной. Газеты, журналы – герценовский «Колокол», «Современник» – и многочисленные приезжие и проезжие приносили в флорентийскую квартирку Ге вести из России. У русских в Италии оказалось тогда вдоволь злободневных тем для обсуждения и споров. Ге «по целым часам может говорить о России, о ее несчастном положении», – писал едва ли не из гостиной художника один из посетителей. Подготовка крестьянской реформы и отмена крепостного права, мужицкие бунты, близость революции, в которую верили и к которой звали лучшие люди страны, острая взбудораженность общества, жаждавшего перемен, – подумать только, эти годы Ге прожил в далекой Флоренции! Две тысячи триста верст пути и голубой шелк, обтянувший стены гостиной, приглушали вести: тревожные события оборачивались пылкими разговорами.
Впрочем, кое-что ему довелось увидеть своими главами. Архивные документы раскрывают неизвестную страничку жизни Ге.
Оказывается, бурным летом 1861 года он побывал с семьей в России. А принято считать, что он безвыездно прожил за границей все шесть лет пенсионерства.
Дата и маршрут поездки – через Вену и Львов в Подольскую и Черниговскую губернии – позволяют предположить, зачем он отправился на родину: шло межевание земель после реформы. Анна Петровна с сыновьями Николаем и Петром – дома их звали Коко и Пепе – сперва гостила в отцовском имении, потом поселилась на лето в небольшом (188 дворов) местечке Осламове. Здесь Ге расстался с женой и тронулся обратно во Флоренцию; по дороге он навестил своих братьев, Григория и Осипа; Григорий предложил ему ваять при разделе поместье в Попелюхах. Ге вдруг почувствовал, что деревенская жизнь его манит: «Буду спешить… приехать и поселиться здесь. Во всех отношениях мне здесь нравится жить». Но до деревенской жизни – еще пятнадцать лет.
Неизвестно, что увидел Николай Ге в России. Однако доподлинно известно, что в Подольской губернии восемьдесят тысяч крестьян отказались отбывать барщину, волнения охватили 159 сел. Известно, что Черниговская губерния стала центром движения на Левобережье. Вряд ли все это прошло мимо Ге.
Во Львове, на обратном пути во Флоренцию, он встречался с польскими деятелями, жадно набросился на местные газеты, прочитал в «Колоколе» послание русских женщин к польским. В первых же письмах к жене из Флоренции он рассказывает о «льве» Гарибальди.
Догадываемся не только, о чем говорили в гостиной у Ге, знаем, к а к говорили. По воспоминаниям, в разговорах о политике «господствовал» «тон крайнего либерализма»; в ту пору слово «либерал» означало – человек, мыслящий или действующий вольно. Но от мыслить вольно до вольно действовать самый трудный шаг… Чай из русского самовара, хоть и горячий, остужал пыл острых споров, за малороссийскими варениками, которые виртуозно готовила нянька, вывезенная из черниговского имения, наступало примирение. И все же молодой приятель Ге жаловался: «Он иногда меня упрекает со всем его добродушием, что я, несмотря на свои лета, так мало революционер».
Как, однако, был чуток художник Ге, если запоздалые вести, заглушенные верстами и плотным шелком стен, шумом голосов и звяканьем чайной посуды, тревожили его, воспламеняли, пробуждали в нем замысел картины, в которой передовые деятели русского общества найдут нечто главное, свое.
Для Ге шаг к действию – шаг из гостиной в мастерскую.
Открылось!.
Ге потом вспоминал, как начал «Тайную вечерю». Читал Евангелие – и вдруг ему открылось. А он уже был в отчаянии, он уже хотел бросить живопись – вернуться в Россию и заявить, что ничего не привез, нету таланта, ошибся.
Он уже не разрушает храм, не убивает торжественно никого из своих героев. Шестидесятые годы Ге начал портретами знакомых, набросками на литературные темы: Лир и Корделия, леди Макбет, Дездемона, миф о Фаэтоне, Жан-Жак Руссо, «Пир во время чумы». Он все ищет, уже мало надеясь, – не в истории, так в книгах: сколько страсти у Шекспира – Лир возле мертвой дочери, у Пушкина – последние пирующие в замке, осажденном чумой. Его привлек ненадолго юноша Фаэтон, который не сладил с солнечной колесницей и, пораженный молнией, упал с неба – не всем дано светить людям.
Он пробует силы в пейзаже – Вико, Фраскати, Ливорно. Горные дали, Везувий, залив, виноградники. Природа на его холстах взволнованна и одушевлена. Не «равнодушная», «сияющая вечною красою», а увиденная чутким, влюбленным в мир человеком. Он будет писать пейзажи, пока не покинет Италию, он создаст замечательные полотна, по-новому, п о-с в о е м у расскажет о прекрасной стране – лет через десять начинающий скульптор Гинцбург увидит в петербургской квартире Ге эти пейзажи и почувствует волнующую, порой гармоническую, порой тревожную красоту далекой страны. Но пейзажи – тоже только поиск. Творческого счастья, полного и всепоглощающего, они не приносили.
И когда, казалось, впереди уже ничего не маячит и он в который раз читал Евангелие, – ему о т к р ы л о с ь.
Он вдруг все увидел и понял, что это – то, что ему теперь всего дороже – через неделю была подмалевана картина, «в настоящую величину, без эскиза».
Какое это счастье, когда открылось! Сразу забываешь о годах мучительных поисков, о мыслях и чувствах, которые тайно копились и ждали только последней капли, чтобы выплеснуться в творчестве. Она тяжела и сверкающа, эта последняя капля! Она слепит. Она одна остается в памяти. Рождаются легенды, что великое открывается вдруг. Ньютон увидел, как упало яблоко… Пушкин рассказал Гоголю анекдот о ревизоре… Чайковский услышал случайно песенку деревенского плотника… Так в прекрасных легендах рождаются законы физики, драма, симфония. Капля катализатора пересиливает во мнении людском целые моря – ума холодные наблюдения и горестные заметы сердца.
Как это, однако, много значит, что Ге нашел свое в Евангелии. В книге, которую до него миллионы людей читали полторы тысячи лет. В которой сотни художников до Ге искали и находили свое.
Как это много значит, что Ге, неудовлетворенный собой, страдающий от несамостоятельности, от зависимости, вдохновенно взялся за традиционный сюжет. Он, который вчера только отбрасывал кисть и повторял слова Брюллова: «Лучше ничего не сказать, чем сказать ничего»; он, который еще вчера и думать не смел о евангельской теме, вспоминал разговор Иванова с Герценом – лучше бросить кисть, чем взойти в храм без веры.
И вдруг все увидел там, где и не искал, поднял кисть, осмелился, приступил – да как пошел сразу!
Ручей устал пробиваться между камнями, которые натаскал в свое ложе, он принялся прокладывать новое русло.
Традиционный сюжет подчеркивает новаторство Ге.