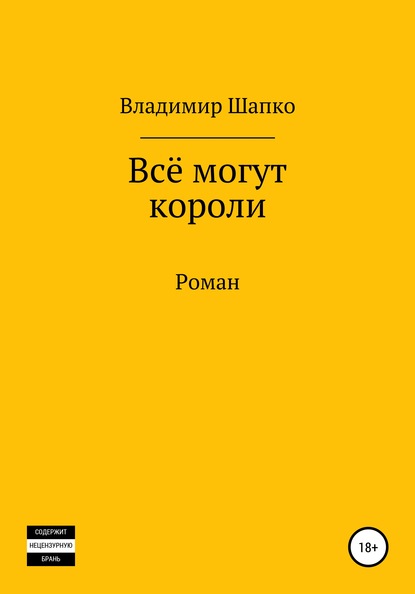По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Всё могут короли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
9. Надменный парень, или А если по высшему счету?
У Дылдова был гость. Какой-то парень. Он надменно сидел у дылдовского круглого окна, как у стереотрубы профессор. Не обратив ни малейшего внимания на вошедшего Серова, он объяснял явление: «Допустим, все стоят на переходе. Через улицу. Смотрят – красный. Нельзя. А может, это и не красный цвет вовсе. А может быть, это какой-нибудь другой цвет. Но у тебя в голове – красный, у него – красный, у меня – красный. Все уверены – красный… А кто знает, если по высшему счету брать?..»
Дылдов пожал Серову руку, похлопал по плечу, выдвинул табуретку, приглашая на сеанс. Но чтоб не шумел он только, чтоб тихо было. Чтоб как в кино. Опять оперся на столешницу, опять был весь внимание.
Парень стукал по коленям длинными выгнутыми пальцами. Как клюшками. «…Или – дерьмо взять. Запах. Каждый знает. Однако если по высшему счету – сомневаюсь!»
Серов посмотрел на Дылдова. Потрогал мочку уха. Шизофреник?
Дылдов тронул подбородок. Слегка почесал. Не без того!
Расставленные ноги парня без носков, но в мокасинах, стояли как кривые кости.
«А жизнь человеческую если посмотреть? Положенную на ничтожные гвоздочки годиков-цифр? Ничтожный рядок, протянувшийся в никуда – и всё?.. А может, жизнь-то – вширь раскинулась, пространственно, неохватно? А человек лежит, как йог, ощущает только острые эти гвоздочки. Всем своим телом. И никуда. А? Это как? Правильно?..»
Серову да и Дылдову уже не терпелось приняться за него, не терпелось разделать его под орех, но всякий раз, как только кто-нибудь из них раскрывал рот – парень сердито поднимал руку: «Я не кончил!..» Недовольно стукал по коленям выгнутыми своими клюшками. «А цирк, к примеру? Циркач в нем? Палками кидает… Этими… булавами. Или просто шарики у него гуляют. Белые. В руках. А если по высшему счету – это зачем?.. Но человек кидает. Занят. Пусть… Или БАМ. Это как? По высшему счету?.. Но понаехали, суетятся, соревнуются, тянут там какую-то железную дорогу. Мерзнут, радуются. – Пусть… Для людей надо придумывать бамы, фортепьяны там разные, скрипки, булавы! Пусть кидают, забивают костыли, бренчат… Пусть думают, что работают, что достигают совершенства. Пусть всё – как бы серьезно. По высшему счету жизни… Людей надо жалеть работой. Да. Жалеть… Не человек для работы, а работа для человека. Пусть играет…
Или – человек не справляется там. Бесталанный. Не тянет. Что его – убить?.. Надо жалеть его. Работой. Пусть. Участвует же. Чего ж еще? Каждый за жизнь свою произведет все равно больше, чем проест. Как бы плохо ни работал. Колхозы наши, заводы, конторы – всё построено на жалости к человеку. Может, даже на любви к нему. Пускай играет. Пусть думает, что работает. Ордена там ему, доску почета – пусть. Да! А у Павлова?.. «Работа, человек, инстинкт цели!» То есть что это – конечный результат, что ли? Да фигня! Важно участие в цели. Всем миром чтоб, собором, кучей. А не цель как таковая, не результат ее. Это на Западе – глотки друг другу рвут. Пусть их. У нас – не пройдет. Людей жалеем работой. Люди заняты. Космос? – Ура! На целину? – Ура! БАМ – ура! Булавы кидать – Ура!»
Непонятно было – парень говорит всерьез или всё – мистерия. Мистерия-буфф, мистификация. И, как паяц, он сейчас загогочет со всеми, визгливо закатится на весь цирк…
«Труд примиряет человека с жизнью. Да, примиряет. Единит. А если б так-то человек, без работы – по отношению к ней, жизни-то – ведь зверь зверем тогда! Чего от него можно ждать? – Никто не знает!.. Надо дать ему возможность. Пусть будет это его шанс. Он имеет на него право. Имеет! Умные люди… – парень жестко посмотрел на слушающих, – …умные люди поймут это. А дураки – пусть!..»
Слушающие удивлялись – парень, несмотря на придурь, брал широко. Однако привык слушать, походило, только себя. И надо признать, умел заставить слушать себя. Но было также очевидно, что всё у него ходит на грани. Куда повернет – в разумное, в безумие ли – предсказать было невозможно.
Парень стукал клюшковыми своими пальцами по коленям. Он был спокоен. Он вогнал слушателей в немоту железно. Он собирался с мыслями. «А если сперму взять? Человечью? (Дылдов и Серов переглянулись.) Излитую во все времена? Всеми народами? Да собрать ее всю?.. Это что же было б с землей тогда? С земным шаром?.. Монстр бы в космосе летал, роняя за собой континенты, океаны спермы! Вот что значит по большому счету брать… А вы… копошитесь тут, пишете чего-то…»
– А как? – осмелился спросить Серов.
– Что – как?
– Собрать – как?
– Это неважно. В один выброс – миллион сперматозоидов. На жене там или онанист какой… Миллион!.. А если по большому счету? Во всемирном масштабе? Внутренний микрокосмос спермы и тут же – макрокосмос ее? Если сопоставить их? Вместе?.. (Слушатели начали сопоставлять.) То-то! Космос затопит. Шагу негде будет ступить. Микрокосмос спермы и тут же – макрокосмос ее? Сопоставить? Вот и думайте теперь… А то пишите тут… свои романы…»
Дылдовская налимья шея уже буро налилась, уже потрясывалась, готовая разорваться, однако парень недовольно постукивал пальцами. Парень решил добить слушателей: «А знаете ли вы, вы – писатели, что от того, как стоят в прихожей туфли или сапоги там какие зимние – о хозяине их можно сказать всё? Знаете или нет, вы – писатели? (Дылдов и Серов переглянулись, узнавая: знают они или нет?) Вот так стоят (он показал – как стоят) – это одно. Ладно. Пусть. А вот так (он усугубил положение своих голых кривых ног в мокасинах) – так это разве не хулиганство со стороны хозяина?..»
И все это говорилось совершенно серьезно. Требовательно даже, обличающе. Человек болел своими мыслями, пропуская их через себя. Выстрадал их…
Хохот слушателей был дик, страшен. Это был хохот сумасшедших. Это был не хохот даже – припадок. Они валились на стол, подкидывались на кровати. Серов выскакивал в коридор, вновь появлялся, переламываясь и колотясь. Парень был нормален. Не шелохнулся на стуле. Клюшковые пальцы выстукивали на коленях.
Потом он ел ливерную колбасу, честно заработанную. Нарезанные кусочки – длинной брал щепотью. Как будто молился. Как будто заглатывал молитву. Парень жизнью явно был не избалован. «Его Федором зовут», – пояснял про него, как про великомученика, Дылдов. Парень отдал высоко засученную руку Серову: «Федор. Зенов». Снова брал ливер в троеперстие. Снова как собирал в молитву, нетерпеливо сглатывая. Подносил ко рту, запрокидывал голову, проваливал глаза. «Тебе бы рубашку надо, Федя… – сказал Дылдов. – Да и носки на ноги…» – «Не надо. Тепло еще… – ответил бич. – Потом дашь». Ну, потом – так потом.
Уходил парень каким-то совершенно непохожим на себя. Тихим, смущенным. Ничего не ответил на вопрос Дылдова, придет ли ночевать. Спятился как-то, ужался в дверях, толкнулся и исчез.
10. «Чего делаешь-то, дура!» (Зенов)
…Она сказала ему, что давно за ним наблюдает, хихихи. Как он здесь ошивается. На станции. В Ступино, хихихи. Грибочки какие-то перед ней, ягодки в банках и плошках, выставленные прямо на землю. На асфальт. Наблюдает с позавчерашнего дня. Как только он слез с московской электрички, хихихи. Надолго к нам? В славный город бичей Ступино, хихихи? Из Москвы, что ли, поперли, хихихи? Он огрызнулся: твое какое собачье дело? Отошел. Стерва. Августовское солнце жгло. Однако жрать хотелось по-прежнему нестерпимо. Как пёс, полакал из фонтанчика возле билетных касс. Бабёшка все хихикала, подманивала. От загара тощие ручонки и мордашка были как у муравья. Ну же! Иди сюда, хихихи! Вроде как посторонний – подошел. На вот, порубай! Схватил сорокакопеечный ливер в кишке. Выдавливал в рот, как из тубы космонавт. Начал рвать зубами. Вместе с кишкой. Хлеба, хлеба возьми, хихихи. Снова лакал из фонтанчика. Небо наклонилось, грозилось скользнуть, улететь вбок. Постоял для устойчивости. Потряс головой. Потом, особо не думая, как все тот же пёс, пошел за бабенкой. Бабенка размашисто шла впереди с сумками-ведрами на руках, пиная длинную черную юбку. Пиная, можно сказать, макси. Зада у бабенки не было. За складками матерьяла егозила будто бы шпулька. Челнок. С час, наверное, ехали автобусом. Платила бабенка. Верка, как она назвалась. (А тебя как? Зенов? Федор? У, какой гордый, хихихи!) В густом черемушнике лазил, гнул деревья. Наклонял к земле. Обирала черемуху Верка. Все лицо было в тенётах, как в засохших соплях. Протягивались куда-то в небо осенние нескончаемые радужные паутины. Бабешка тараторила без умолку. От черемухи с черным ртом – как беззубая. Бичиха бича видит издалека, хихихи! Работай, Федя, хихихи, отрабатывай кредит! Ели на пологой сползающей к ручью поляне. Верка круто запрокидывала портвейную. Потом разбросалась на траве. Разбросались точно просто ее юбка и мужская рубашка с закатанными рукавами. Одолевало любопытство. Что – и тела как такового нет? А ты посмотри! Как от взрыва, взметнулась юбка. Мгновенно явив ему взведенную, готовую стрельнуть рогатку. На которой белья и не ночевало. Чего делаешь-то, дура! – отпрянул исследователь. Потом он гнался за женщиной, ломился кустами. Ухватив за юбку, протяженно падал с ней. На муравьиной куче, руками, за бедра, вздергивал себе утлую голую эту ее шпульку. Никак не мог вложить. Разбросав руки, бабенка скулила над муравейником… И вспыхнуло небо радугой, и затряслось, и начало разваливаться, и точно перекинулось разом, отбросив его в сторону. Женщина быстро отползла, все скуля. И уставились друг на дружку. Возле порушенной кучи. Сплошь облепленные муравьями – как обгорелые монстры, выползшие из пожара… И снова бежали. И снова протяженно падали… Кружили над ними какие-то летательные аппараты с моторчиками. Легкие, как комары. Бошки в касках тянулись, пытались разглядеть.
11. «Наш адрес не дом и не улица!»
Как кокон, стояло по утрам общежитие, завернутое в туман. За пустырем, за водоемом вдали, напоминая высосанные пеньки чирьев, еле угадывались в тумане три трубки ТЭЦ. Сам пустырь, убитый апрельским заморозком, лежал белым кладбищем стрекоз. Диким, всё сметающим кочевьем проносились стада крыс, мокро вытаптывая за собой, как выжигая, весь заморозок дотла. Не мог лечь, пугался земли грязноватый туман. Потом вылезшее солнце иссушило его – и раскидало по пустырю резко-ртутные одеяла из воды, капель, по которым уже ехали, взрывая их, как на лыжах с горы, большие растопыренные вороны. Из общаги на пустырь выбегал первый спортсмен. Бежал, радостно подпрыгивал, взмахивая пустыми ручонками, как взлетать пытающийся птенец, но пропадал где-то у водоёма, то ли утонув там, то ли проскользнув вбок. Сам водоём теперь при солнце – стал словно бы раскинутым, расправленным аккуратно платьем очень чистоплотной дамы (ТЭЦ), на природе сидящей и очень увеличенными, вывернутыми губами сосущей небесную благодать…
К девяти часам скромненько пришел оркестрик с зачехленными трубами. Человек в девять. В одиннадцать. Суеверным нечетным числом пришел. Как цветочный, как подарочный. Раздевая блестяще-никелированные трубы и баритоны, музыканты рассеянно поглядывали на здание. Как на первого зрителя-дурака. Затем быстренько сдвинулись к центру, встали в кружок, оттопырив зады и вытянув шеи, приложились интеллигентно к мундштукам и дружно ударили, плоско стукая ступнями как гуси лапами. Тем самым создав себе уютненький, неистово загрохотавший музыкальный мирок. Барабан же с тарелками пристукивал от всех независимо, отдельно: ?ста-?ста! Как эгоист.
Первым выскочил из общежития Кропин. Вахтер. Полураздетый, сразу с улыбкой до ушей. Оглядывался, искал с кем бы порадоваться этому никелированному грохочущему празднику. Казалось, двинься, пойди оркестр – пошагал бы впереди него, не раздумывая. Этаким голопузым мальчишкой с деревянной сабелькой на боку. Вразнобой размахивая руками. Раз-два! раз-два! Однако вынесенный кумач на палках с двумя разинувшимися пэтэушниками был неустойчив, пьян. Металась Дранишникова – воспитатель, строила пацанов, но те не строились как надо (в стойку «смирно», что ли?), таращились на оркестр, и старые известковые буквы «да здравствует» перекашивало на материале, жевало. Буквы словно осыпались к ногам мальчишек, и их можно было собирать. Еще один, забытый всеми пэтэушник носился с портретом за спиной на палке. С портретом Вождя. Подпрыгивал с ним, точно с воздушным змеем. Как будто хотел оторваться и лететь. Еле уловил его Кропин. Поставил рядом с барабаном. Получилась фотография времен Гражданской войны: оркестр бравых трубачей, опутанный кумачом, портрет Вождя возле барабана. Здорово! Прямо душа поет! Кропин трепетно тряс руку вышедшему Новоселову. Председатель Совета Общежития однако был озабочен. Поглядывал на окна здания, прикидывал – как выгонять? Выковыривать как? Вздохнув, пошел обратно. Вышуровывать из комнат. Однако в первом же коридоре, завидев Новоселова, люди начинали перебегать из комнатки в комнатку. Хихикали. Играли с ним, понимаешь, в кошки-мышки. И больше всех – девчата. Заигрывали как бы. Вспомнился сразу Давыдов-Размётнов. Его добродушные улыбки и слова. Когда его трепали, не в шутку лупцевали женщины. Да что же это вы, товарищи-женщины, делаете со мной! Ведь умру сейчас от щекотки! Дорогие вы мои! Ха-ха-ха!.. Выводил из комнаток. Ничего. Сначала шли. Чуть останавливался по делу, говорил с кем-нибудь – бежали. На цыпочках упрыгивали. Да что же это такое, дорогие вы мои! Приходилось снова выгребать – вести под руки.
Тем временем на улице, не слыша даже рёва оркестра, за указующим, за протыкающим пальчиком Силкиной (директор общежития) поспешно передёргивалась Нырова с блокнотом и карандашом (завхоз.) Опять были вывешены женские трусики на одном из оконец. Этакой снизочкой вяленой рыбки. Вдобавок на соседнем окне полоскало застиранную пеленку (да после свеженького! да после желтенького!), и это в такой день! Поэтому Ныровой пришлось прямо-таки ветром… прямо-таки ужасным сквозняком улететь обратно в общежитие. Чтобы немедленно устранить, немедленно ликвидировать безобразие!
Выгоняемый Новоселовым и активистами народ копился возле кумача, возле барабана и оркестра. Ожидалось шествие на субботник. Можно сказать, демонстрация. К пустырю и на пустыре. Ждали команды. Силкина махнула. Оркестранты, не переставая играть, активно затолклись на месте. Замаршировали. И пошли за нотами на трубах, как упрямые ослы за подвешенным сеном. Ударник приторочился под лямку к барабану, утаскивался барабаном, с размаху ударяя.
И ничего не оставалось всем, как двинуться за ними.
Слышались оживленные разговоры, смех. Все девушки шли под руку и пели. Стройненькие рядки их грудей вздрагивали в едином ритме. Как будто бы рядки сокрытых серых зверьков. Было в этом что-то от большой, коллективно несомой, звероводной фермы. Парни с лопатами штыками вверх нервно похохатывали от такого изобилия сокрытых зверьков, тоже маршировали по бокам, точно охраняя, но в тоже время и как бы скрадывая их. И как колеса, колченого, пробалтывались вдоль колонн новоселовские активисты. Все падали. С земли тянулись рукой – всячески направляли! Видя эти падения активистов, падения с протянутой рукой… Серов принимался хохотать. С навесившейся на руку Евгенией, среди тяжелых замужних женщин, на пузо утянувших тр?ники, он находился будто в сплошь молочно-товарном производстве! (Какие тут «зверьки»? где? какая охота? какие игры?) А тут еще Катька и Манька начали ему обезьянничать, подпрыгивать впереди. Серов совсем заходился от смеха. Пробрался к нему Новоселов, сияющий: праздник ведь, Сережа, праздник! Жена сразу отпустила руку мужа. Новоселов приобнял их за плечи, повел. Повел, как говорится, в забой. Он был сейчас старый рабочий, наставник, отец родной. Сосредоточенный свитой чуб его покачивался, светил как нафонарник. Эх, черти вы мои суконные, черти! Ведь праздник же сегодня, праздник! Черти вы мои полосатые! На радость прыгающим Катьке и Маньке, Серов опять начал хохотать, совсем пропадая. Фильма тридцатых годов была полная! И на пустырь уже тянулись, переваливались самосвалы, набитые деревьями, кустами. Везли уже страну кудрявую на све-е-е-ете дня-а-а! Оркестр понимал момент – трубил. Прабабкиным фокстротом попарные девчата оттаптывались назад. И снова наступали. Тил?м-тил?м! Нам утро вменяет прохладу-у, нам ве-етер вдаряет в лицо-о! Тил?м-тил?м! И барабанщик всех пристукивал к себе тарелкой. Уже на месте. И дальше – некуда: вода. И трубачи водили трубами как хоботками, принюхивались к окрестности, оглядывались по пустырю, тил?м-тил?м!
Минут через двадцать, когда уже копали, у общежития показалась и заныряла к пустырю черная «Волга». «Волга» с начальством. Силкина в ужасе бросилась, задирижировала. Но музыканты сами уже встали гусями. Ударили, подкачивая тарелкой медный свет:
Иста! ?ста! Е-сли бы па-рни всей зе-мли!..
Из машины поднялся Хромов. Сутулый, тяжелый, высокий. Манаичев же – как будто из ящика наружу вылезал. Поставив себя на ноги, недовольно шарил что-то в габардине до пят. В карманах. В сравнении с Хромовым низенький, кубастый, но сразу видно было: главный – он. К нему подбежали Силкина и Нырова, запыхавшиеся от счастья. Повели, указуя, куда он может ступить без боязни замочить ноги. Хромов шел, высился сбоку. В спортивном шершавом пиджаке, с грудью и спиной колесами. Седеющий бобрик на голове. Матёрый нью-йоркский гангстер при Папе. Телохранитель. Такой пойдет бить – досками разлетаться начнут!
Как всегда опоздав, парторг Тамиловский прискакал на уазике. Догнал всех, присоединился. Размахивал руками на манер мельницы. Куда бы ни шел Манаичев – туда сразу перебегали с лозунгом пэтэушники. Выставив его ему. Как жеваную портянку. И с портретом пэтэушник хитро просовывался. Как бы из-под кумача-портянки. Манаичев косился. С одним лозунгом все, что ли? Куда ни кинь взор, понимаешь. Придумать новый, что ли, не могли? «Наглядная агитация! Наглядная агитация!» – клушкой запрыгала впереди всех Дранишникова, воспитательница пэтэушников.
И ещё. Когда все шли, передвигались – оркестр трубил марши не переставая. Как только останавливались – разом обрывал: должно быть с л о в о. Манаичев хмуро смотрел, как врубались лопаты. Говорил парням, чтоб брали глубже, понимаешь. Девушки ожидающе удерживали кусточки, вроде как за шкирку хулиганов. Парторг, жадный, радостный Тамиловский метался, выискивал лица. Чтобы призвать их, призвать! Люди посмеивались, уклонялись. (Один Серов был как Володя юный, дергался за Тамиловским, хотел учиться, внимать, но Серова за годный к учебе матерьял Тамиловский не признавал.) Хромов высоко над всеми курил, пережидая. Снова трогались – и оркестр разражался. Получалось – как на военном параде. На Красной площади. «Здравствуйте, товарищи!»… «Здра-ра-ра-ра-ра-ра-ра!» И музыка дальше, и барабан!
Через десять минут Манаичев большой подушкой лежал в машине. Под лобовым стеклом. Как будто в саркофаге. Полученном при жизни. Шофер рядом превратился в руль. Хромов надел машину на ногу. Махнул оркестру. Оркестр истошно взревел. С Начальником прощаясь навсегда.
Опять побежала Дранишниквова и все Пэтэушниковы. Чтобы почтительно поставиться с лозунгом перед отъезжающими. И Вождя без шапки, как лихого татарина, пэтэушник снизу хитро просовывал. Как уже разоблаченного, как пятиалтынного.
По пустырю скакал забытый Тамиловский, уазик подхватил его, помчал вдогонку.
Крылом вперед проталкивалась по небу косоплечая ворона. От радости и счастья все девушки опять пошли оттаптывать и наступать фокстротом. По райскому московскому пустырю. По райской всей, московской земле. Меж райских кустиков, которые они высадили сами. Закидывали головы к вороне, с оркестром пели: «Наш адырис не дом и не ули-ца! Наш адырис Советысыкий Сою-у-ус!»
Уталкиваясь, ворона дала им обмирающий фейерверк обмирающего дерьма.
12. Бутылка Плиски после ленинского субботника
У Серовых за столом Новоселов сидел с Катькой и Манькой в обеих руках, как сидят с растрепанными смеющимися цветками. Одаренный ими, зарывался в них лицом и хохотал.
Сам Серов сидел скромненько, но и озабоченно. Так сидят за столом бедные родственнички. Пока Евгения бегала из комнаты в кухню и обратно, откуда-то выпорхнула на стол бутылка Плиски. Как перепелка. При совершенно неподвижных, казалось, руках Серова. По-прежнему скромненьких, подъедающих друг дружку. Удивительно, конечно. Фокус. Но ладно. Бдительность потеряна. Добродушию Новоселова, что называется, не было границ. Добродушие Новоселова затопило стол и его самого за столом. Праздник же, праздник, черти вы мои суконные! Девчонки, как все те же охапки цветов в руках новоявленного Максима Горького, мотались, закатывались вместе с ним смехом.
Все бегала с едой и посудой Евгения. И Плиски николечко на столе не боялась. Подумаешь, – Плиска на столе. Да вместе с Сашей Новоселовым мы горы свернем! А тут – Плиска… Из стопки тарелки в цветочек перелетали на стол как девственницы. Всё предыдущее стремительно забывалось. Всё предыдущее не обращало на себя внимания. Ну вот ни столечко! Подумаешь, – Плиска. Бутылка. Как перепелка. Ха-ха-ха! Наш а-адрес… э… не дом… и не у-улица. Ха-ха-ха! Плиска! Ха-ха-ха! Перепелка!.. наш а-адрес… Сове…тысыкий Сою-уз!
Три руки (одна женская, две мужских) – точно удерживали в рюмках бурое масло. Поднялись, зависли над столом. Две все-таки сомневающиеся, колеблющиеся, зато третья – абсолютно уверенная в себе. Абсолютно! Стукнув рюмкой рюмки сомневающихся, Серов масло в себя – закинул. Лихо. Залихватски. Подумаешь, – Плиска. Несколько рюмок. Да под такую закуску! Слону – дробина. Челюсти Серова старалась. Он как бы закусывал. Умудрялся уничтожать закуску во рту. На месте. Не пропуская ее дальше. В пищевод, в желудок. Это надо было уметь.
Катька и Манька выделывали ложками. Что вам ушлые гоголевские писцы перьями. После двух-трех рюмок, после обильной еды с ними, лица непривычных к вину Евгении и Новоселова уже внутренне смущались себя, стали тлеющими, особенно у Евгении. Пора была заканчивать всё чаем. Между тем Серов еду по-прежнему растворял во рту, отцеживал в себя, как из тюри, сосредоточенно ждал. Удара. Хлыста. После нескольких рюмок был совершенно трезв. Машинальные, необязательные, вязались ко всему слова: «…Взять твои лозунги сегодняшние, вынесенные кумачи…» Новоселов сразу возразил, что лозунги не его. И кумачи выносил не он… «Неважно. (Неважно, о чем говорить, требовался разгон.)… Кумачи. Лозунги. Просто ряды белых букв развешенные. Без смысла уже, без толка… А ты говоришь – читать, изучать…» Да ничего я не говорю!… «Неважно». Сгребались шлакоблоки. Должно было что-то соорудиться. «Читают все, Саша. Да понимают по-разному прочитанное. Сколько у нас начитанных негодяев… Все, к примеру, читали «Муму». Только одни, когда Герасим топил несчастную собачонку, задыхались, плакали… другие – слюнки пускали, как в дырку подглядывали, горели подленьким злорадным интересом… А ты с плакатами, с кумачами». Да не выносил я их! Женя, скажи ты ему! «Неважно… Там и читать-то нечего, не то что понимать. Не слова даже – ряды бессмысленных букв. Вывернутые мелованные пустые глотки. Из анатомии коммунистов. В! О! У! Ы!» Записать бы. Да ладно. Неважно.
Тугомятину во рту отжевывать продолжал. Однако, натыкаясь на смеющиеся новоселовские возражения, слова Серова стали обретать напор, силу. Напор и силу голимого смысла, выстраданного, даже можно сказать: «…Да о чем ты говоришь, Саша! Вслушайся только… влезь в смысл этих твоих слов! Этого словосочетания – п о д а в л я ю щ е е большинство… А? Подавляющее, понимаешь? О какой свободе речь?» Действительно – о какой? Новоселов оглядел всех сидящих за столом. Кроме Серова. Действительно? Евгения уже раскачивалась от смеха. Девчонки тоже смеялись.