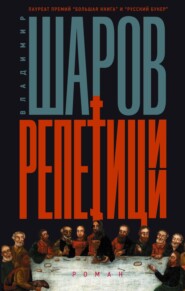По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Царство Агамемнона
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нельзя сказать, – продолжал отец, – что мать не любила безвыходных ситуаций, она их просто не признавала. Возможно, дело было в крови якутской княжны, возможно, в чем-то другом, но она вышла из детства убежденная, что справится с любыми обстоятельствами.
Ее и вправду достаточно хорошо снабдили в дорогу, чтобы смотреть на взрослую жизнь без трепета. Умная, волевая, красивая, она, когда мы уже жили вместе, не раз говорила, что и в гимназии не сомневалась, что как у ее подруг сложится судьба, она, естественно, не знает: у кого-то, наверное, хорошо, у кого-то не очень, у нее же будет, как пожелает.
Повторяла, что даже Гражданская война далась ей легче истории с Троттом. Гражданская война была общим бедствием, и она, и другие понимали, что, когда вокруг разруха, голод, холод, вдобавок вши, испанка косит и косит людей, – всё в руках Божьих. С самого человека спрос невелик. Иное дело мастерская Тротта. Ей казалось, что здесь она всякий раз принимала верные решения. Например, вызвалась позировать барону.
Однажды прямо посреди семейной сцены твоя мать, – говорил отец, – остановилась и будто на уроке, спокойно, методично стала разбирать эти свои решения. Сначала сама с собой согласилась, что они были непростые. Но она, будто героиня французской революции, даже честью была готова пожертвовать ради общего блага. Это о позировании Тротту. Потому что деньги за работу были получены, частью и проедены, возвращать их нечем; если заказ сорвется, придется проститься с мастерской, а тогда где нам всем искать крышу над головой?
Но тут выясняется, что Тротт из-за каких-то своих мужских закидонов писать ее не может. То есть она позирует и он сутки напролет работает, но холсты выходят из рук вон плохие. Баб, с которыми барон не спит, которых, по его собственному выражению, он прежде не познал, не поимел, – он не понимает. В них для него нет жизни: не человеческая плоть, а кусок мяса. Соответствующий и результат.
Так что она, раз нам необходимо, чтобы заказ был сделан и принят, опять же во имя общего блага, готова и на другую жертву – лечь с Троттом в постель. То есть снова проблема не в ней, а в бароне. Она человек долга, человек слова, для нее надо – значит, надо, а он жил и живет в мире, где страшнее инцеста греха нет.
Вокруг режут, насилуют, убивают, вокруг самая настоящая революция, которая рушит, под самый корень крушит старый мир, а он уверовал в идиотские условности, его с них не сдвинуть. Кроме того, они ведь не детей собираются стряпать, единственное, что она хочет, это чтобы он убедился, что она живая, чтобы он ощупал ее и обмял, вошел в самое ее нутро, овладел со всеми потрохами, если надо, вывернул наизнанку и такую, которая теперь вся его, перенес на холст.
У якутки была подруга, – рассказывал отец, – которая первый аборт сделала еще в выпускном классе гимназии. Сейчас она была анархисткой и активным членом общества “Долой стыд”. Говорила, что на повестке дня у нас Рай, а в Раю Адам и Ева должны быть наги. Иногда целой ватагой они в чем мать родила вламывались в трамвай – толпа улюлюкала, плевалась, их щипали, лапали, поносили самыми грязными словами, но они не сдавались, через весь вагон прорывались на заднюю площадку.
Она уговаривала и якутку пойти с ними, но та пока не решалась. Единственное, что подруга ненавидела, была ревность, которая в минуту даже однопартийцев, братьев по оружию умеет сделать лютыми врагами. Говорила: почему бы мне не раздвинуть ножки, не дать товарищу по классовой борьбе, не доставить ему удовольствие? И чего ревновать – член не мыло, не измылится, и с моей щелью тоже ничего худого не приключится.
Голова мужчины должна быть забита не нашими грудками и попками, половая жизнь – такая же потребность, такая же нужда, как и всякая другая, справь свое дело и с новыми силами строй бесклассовое общество. Подруга, – объяснял дальше отец, – была посвящена во все отношения якутки и Тротта, естественно, полностью ее поддерживала, о бароне же отзывалась с презрением»”.
“С презрением подруга относилась к барону или нет, – продолжает Электра, – это ничего не меняло, было ясно, что место матери в его постели. Соблазнить Тротта, когда они работали, она и не пыталась. Пока она позировала, барон смотрел на нее едва ли не с ненавистью. Ему всё в ней не нравилось, всё казалось деланым, искусственным: и как она лежит, и как сидит, и как ходит.
Возможно, так и было. Мать искала, как угодить, но не хватало опыта. Кроме того, многодневные неудачи запугали ее до последней степени. Что бы барон ни говорил: «выпрямись», «немного откинься», «положи руки на грудь» – она от его вечно раздраженного голоса готова была расплакаться. Видит бог, она всё старалась сделать в лучшем виде, что называется, показаться, но против холста у нее не было шанса. На мольберте была очевидна неумелость, неуемность ее тела, его корявость и угловатость. Барону нужны были плавные линии, нужна была нежность и вкрадчивость.
Словно Тротт был не художник, а парфюмер, заказчики требовали, чтобы и самый воздух его картин был пропитан индийскими благовониями, от которых кружится голова, подкашиваются ноги, просили смешать их с ароматом дорогих сигар и старого коньяка, и, наверное, барон смог бы им угодить, но мать своим неловким, оттого несмелым телом ломала ему игру.
Тротт старался как мог: тяжелыми лоснящимися портьерами, плюшем кресел и козеток оттенял кружева вечерних платьев и тонкого белья, из вычурного гипюра мастерил для маленьких, но без сомнения красивых грудок своей натурщицы розетки, всё это венчал длинной изящной шеей и головкой с профессионально растрепанными локонами, но ничего путного не получалось. То есть так, один на один, взять барона матери было нечем. Но она не была бы восточной княжной, если бы и тут не нашла выхода. Во всяком случае, если бы не думала, что нашла. У якутки было два козыря, их она и решила разыграть.
Тротт много лет прожил в Японии, буквально бредил ею, а у материной подруги еще с довоенных лет сохранилось очень красивое кимоно настоящей японской работы: шелк, вручную расшитый красными драконами, прячущимися среди зеленых бамбуковых зарослей. «Вторым козырем был я, – рассказывал отец Электры, – смотревший на нее с вожделением, от которого оторопь брала. В общем, она решила, что из кимоно получится отличная приманка, а я сойду за живца, на нас обоих она и возьмет Тротта.
С двух до четырех барон отдыхал. У твоей матери вечно была бездна дел и, получив вольную, она обычно уходила из мастерской. Мы же с Троттом оставались дома: ели, если было что, пили чай и разговаривали. Очень часто о православном каноне – как и когда он складывался, об отцах церкви и литургике. Может, канон его и вправду интересовал, может, нравилось, что благодаря семинарии я в подобных вещах неплохо разбираюсь.
И вот с кружкой кипятка в руках мы ведем неспешную теологическую беседу, время примерно без пятнадцати четыре, то есть перерыв уже заканчивается и Тротту скоро к мольберту. Мать тоже должна появиться с минуты на минуту, ей еще надо раздеться, напудриться, подчеркнуть черной краской брови и красной – губы, в общем, привести себя в порядок – для всего этого барон в углу мастерской старыми холстами выгородил ей гримерную.
Она открывает дверь – и Тротт смотрит на часы: ее точностью он доволен. Потом я догадываюсь, что весь свой обеденный перерыв якутка провела у подруги, доводила до совершенства то, что последует дальше.
На ней японское кимоно с драконами, оно и вправду очень ей идет. Прежде так одетой Тротт ее никогда не видел и теперь смотрит на якутку с интересом. С большими раскосыми глазами и высокими скулами, вдобавок с волосами, уложенными как у настоящей гейши, она смотрится чистопородной японкой. Барону в новом обличье она явно нравится. Понимая, что это успех, – держит паузу, стоит минуту или две, дает нам возможность оценить и свой наряд, и макияж, главное, саму себя. Потом не в закутке за холстами, а прямо перед нами медленно, плавно начинает раздеваться. Достает, высвобождает из бесконечных складок шёлка гру?ди, живот, наконец бёдра и ноги.
Она видит, что я свою партию пока играю как надо, от ее щедрот глаз не могу оторвать, то есть мной она довольна и бароном тоже довольна – кимоно произвело впечатление. В общем, как будто всё идет хорошо, даже очень хорошо. Но, увы, она не знает, что это ее последний успех. Что полоса везения тут обрывается. И сейчас барон, даже не заметив, по?ходя на всю жизнь выбьет ее из седла. Потому что, едва она делается голой, Тротт о ней забывает, просто отворачивается.
Потом, – говорил отец, – когда мы уже жили вместе, я часто от нее слышал, что с моего согласия, больше того, при прямом моем попустительстве она и пошла по рукам. Где я был со своей любовью, когда она, еще невинная девушка, раздевалась для Тротта, когда только и думала, как с ним переспать? Без ропота, по первой просьбе принимала позы, на которые и проститутка не пойдет.
Короче, Тротт и я работали вдвоем, на пару сделали ее шалавой – один, причем бездарно, рисовал для борделя, а другой за обе щеки уплетал хлеб, которым она оплатила собственный позор. Впрочем, говорила мать, она и сейчас жалеет, что барон на нее не польстился, потому что та история сломала ее через колено. Так что люблю я ее или не люблю, кому это важно? Ничего хорошего у нас всё равно не получится.
Я понимаю, – говорит отец, – что в ее обвинениях была правда. В том, как началась ее взрослая жизнь, было много непростительного. Публичный дом, для которого Тротт ее рисовал, – заказчик покривился, покривился, но в конце концов три панно с твоей матерью взял, – закрылся только на исходе НЭПа. Не то чтобы среди наших знакомых были завсегдатаи подобных заведений, но Тротт хороший портретист, и ее узнавали.
У нас уже были и ты и Зорик – слыша перешептывания на свой счет, она буквально взрывалась. Помню, что однажды какая-то моя дальняя родня – приезжий с Украины – осторожно спросил, нет ли сестры, очень на нее похожей, – так его просто спустили с лестницы. В общем, Тротт и я были свидетелями унижения, которое ни забыть, ни простить она не могла. Будь мы по одиночке, мать со своим до крайности причудливым умом давно бы что-нибудь придумала, объяснила, в том числе и самой себе, что никакой мастерской никогда не было, но нас было двое, и с этой стереоскопичностью она не знала, что делать.
Между тем, – рассказывал отец, – в жизни Тротта наметились перемены. Кимоно стало последней каплей – барон осознал, что заказ горит ярким пламенем и, если он не хочет, чтобы мы в полном составе пошли по миру, необходимо что-то предпринять. Проблема решилась за один день, правда, Тротту для этого пришлось достать из кубышки страховую заначку – десять червонцев.
Человек прижимистый, барон тянул до последнего. А так заказчик подобрал в соседнем борделе, который, думаю, и содержал, для Тротта неплохую барышню – десяти червонцев хватило как раз на месяц. Девушка во всех отношениях была в его вкусе, главное же, у нее не было недостатков твоей матери. Сильная, красивая и очень яркая казачка, не знаю, что там намешалось, но восточной крови тоже было немало. Барышня рассказывала по-разному, но, кажется, одна ее бабка была турчанкой, а другая черкешенкой. С новой натурщицей дело сразу заладилось.
Наверстывая время, Тротт писал свою барышню весь световой день. Заплаченные за нее червонцы казачка отрабатывала и ночью. Барон, раздвинув холсты, в несколько раз увеличил закуток, в котором прежде была гримерная твоей матери, сколотил из брусьев и досок помост, – уложил на него два набитых ватой матраса, в итоге у них с казачкой получился уютный будуар.
Чтобы не путались под ногами, нас он отселил в глухой, без окон, угол мастерской. Мы сами отгородили его кусками фанеры, а затем занавеской поделили на две крохотные комнатушки. Оба, кажется, поначалу ликовали. Барон работал, а мы – каждый в собственной каморке – радовались жизни. Я читал, что делала мать, не знаю. Но ночью выяснялось, что и своя каморка еще не рай, в лучшем случае его преддверие.
По-видимому, Тротт был могуч или просто он изголодался за два месяца, что ему позировала твоя мать. Теперь, когда работа пошла, его отпустило и он во всех смыслах был на подъеме. Нас они, естественно, не стеснялись. Казачка кричала так, – рассказывал отец, – что мы до утра глаз не могли сомкнуть.
Мы с ней оба были девственниками, но скоро, как и что мужчина делает с женщиной в постели, знали до тонкостей. Нам казалось, что Тротт своей барышне не дает отдохнуть и минуты, мучает ее прямо с яростью, будто идет его последняя ночь. И ему хватало сил и на это, и на работу. Троттовскую мастерскую, – рассказывал отец, – я вспоминал, и когда мы уже жили с якуткой, даже по видимости всё у нас было неплохо, и когда она уходила к моему кузену Сергею Телегину. Вспоминал в тюрьме и на воле. Вывод всякий раз был один, он и сейчас кажется мне недалеким от истины.
Суть его в том, что как сложилось, так сложилось, никто из нас виноват ни в чем не был. Больше того, в обстоятельствах, в каких мы оказались, все вели себя вполне пристойно. И барон, который нас пустил жить к себе в мастерскую и почти год содержал. Кормил, поил, одевал на свой счет, что он не захотел спать с троюродной сестрой – ему ведь в вину не поставишь. В общем, чересчур похабное было время, а дальше – твоя мать права – ничего было не поправить.
Тревожит меня и другая мысль, – объяснял отец, – твой дед и мой отец Осип Жестовский настаивал и настоял, чтобы, прежде чем уйти в монастырь, я узнал жизнь. Только вряд ли он себе представлял эту мою жизнь. То, что он хотел, было из другого времени, общего – кот наплакал. И тут уже речь обо мне. Стоило ли в совсем новых декорациях продолжать следовать у него в кильватере? Но может, да, стоило.
Дожив в Белграде до конца тридцатых годов, твой дед ни разу мне не написал, что ошибся, что было бы куда лучше, прими я постриг. Ну тут другой вопрос – где: монастыри ведь позакрывали, а монахов поставили к стенке, будто белых в Крыму. Выходит, везде клин. Налево пойдешь, черт знает на что набредешь. И направо тоже не лучше.
Я о монашестве думал, – говорил отец, – и когда якутка от меня уходила и когда возвращалась, думал, когда она мне сказала, что мои дети на самом деле не мои, ей их сделал Сережа Телегин. И еще раньше, когда лежал у себя за занавесочкой в мастерской, а Тротт всё не мог успокоиться, до первых петухов мучал, мучал свою барышню.
Между тем работа была выполнена и триумфально сдана заказчику. Сорок огромных масел – два на три. Разврат во всех культурах и во всех его видах. Занимающиеся любовью индийские боги, греческие оргии, пляшущий вприпрыжку козлоногий Пан, окруженный сладострастными сиренами, и Вакх с вакханками, римские бани и лупанарии.
Сцен из жизни Вечного города была добрая половина. Пару лет назад барон по случаю прикупил альбом фресок из Помпей и Геркуланума. Теперь они пошли в ход, очень ускорили дело. Работы с твоей матерью Тротт переложил работами с новой натурщицей, заказчик взял все и заплатил даже щедрее, чем обещал. Вернул Тротту и его десять червонцев, отданные за барышню.
Началась сытая полоса. НЭП вошел в силу, рестораны открывались как грибы, и барон, уже сделавший себе имя, был нарасхват. Вдобавок пошли государственные заказы – тоже немалые. Например, барон, зазвав в помощники старого товарища по академии – одному было не справиться, – оформил физкультурный парад 1 Мая, который прошел на Красной площади. Как и рестораторы, его обнаженную или почти обнаженную натуру власть приняла на ура. В общем, к концу двадцать первого года Тротт имел на руках столько денег, что ребром встал вопрос, что с ними делать.
Заказов было много, прежнего куска мастерской ему не хватало, да и от нас он устал. Взвесив и одно и другое, барон пришел к выводу, что сейчас самое время решить проблему. И вот как-то, когда якутки не было дома, а мы с ним сидели за столом и пили уже не кипяток, а настоящий чай, вдобавок не с сахарином, а со всамделишным сахаром, барон сказал, что три года назад мой дядя подарил ему пятьдесят червонцев, на которые и была куплена мастерская. Теперь он может и хочет вернуть долг. Но, зная мою натуру, понимает: надолго мне червонцев не хватит – я их или раздам, или просто потеряю.
Поэтому, как и мой дядя, он рассудил, что недвижимость надежнее золота. Ее так просто в распыл не пустишь. И присмотрел для меня светлую сухую комнату в Протопоповском переулке. Большую комнату с двумя окнами. Но тут есть одна заковыка – сейчас всё вздорожало и владелец просит не пятьдесят, а восемьдесят червонцев.
На сегодня и восемьдесят червонцев для него не вопрос, в общем, он согласен добавить, с тем, однако, чтобы на Протопоповский я взял с собой и якутку. Комнату нетрудно перегородить, значит, мы сможем жить – хотим врозь, хотим вместе. Я сказал, что меня, ясное дело, этот вариант устраивает, но устроит ли он ее, не переговорив с ней, сказать не могу. Впрочем, и здесь легко сладилось: твоя мать предложению барона была явно рада.
Вещей у нас было немного, можно было собраться за час, но пока оформляли ордер, прошел месяц; переехали мы, только получив его на руки. На прощание фон Тротт сделал нам три роскошных подарка: выдал сухой паек, в нем хлеб, шматок сала на килограмм, чай, сахар и отчего-то небольшая бутылочка спирта. К пайку добавил американскую пишущую машинку “Ремингтон” в очень хорошем состоянии – мать в начале Гражданской войны занесло в Саратов, и там она в штабе атамана Дутова перепечатывала приказы. Барон про Дутова знал и, отдавая машинку, сказал, что с ней на кусок хлеба она всегда заработает.
Третий подарок ждал нас уже на Протопоповском – в комнате стояла широкая железная кровать с пружинками. Впрочем, кровать была только одна, и твоя мать так на меня посмотрела, что я сразу понял: спать буду на полу. Электрического тока не давали, светло было только рядом с окнами, но на улице быстро смеркалось, и мы, неизвестно куда спеша, каждый на своем куске подоконника стали раскладывать скарб, потом середину того же подоконника приспособили под стол, а позже разгородили комнату на две.
Ели, – рассказывал отец, – хлеб с салом, картошку, всё это на радостях запивая троттовским спиртом. Но или по незнанию недостаточно его разбавили, или с голодухи он как-то странно на нас подействовал, в общем, что было дальше, ни твоя мать, ни я не помнили. Хотя, думаю, дело было не в одном спирте, просто, насмотревшись, наслушавшись того, что творилось у барона, мы больше не могли поститься. И знали достаточно, чтобы никаких проблем не возникло. Выходит, нужда во второй кровати отпала. Правда, утром, – рассказывал отец дальше, – я, как ты понимаешь, в самом светлом состоянии духа сходил умыться, вернувшись же, вижу, что якутка, скрестив ноги, сидит в рубашке на постели и смотрит на меня злобным волчонком.
Я не удержался, говорю: “Знаешь ли, в соответствии с новым уставом Всероссийского комсомола, если комсомолец занимает активную жизненную позицию и регулярно платит членские взносы, любая комсомолка из их ячейки обязана отдаваться ему по первому требованию”. Но она только процедила: “Ты не комсомолец”, – укрылась с головой одеялом и отвернулась к стене. Когда же наконец соизволила встать, заявила, что никаких прав на нее я не имею, она намерена пользоваться полной свободой, моих клятв она, естественно, тоже не ждет.
Эти условия показались мне справедливыми, я легко на них согласился. Считал, что после того, через что мы оба прошли, серьезных обязательств у нее передо мной быть не может. Сам я изменять ей не собирался. А в остальном мы ладили, жили довольно мирно. Теперь у меня была своя крыша над головой и, когда у него в Москве были дела, у нас стал останавливаться мой двоюродный брат, сын дяди, известный цирковой акробат – он выступал под фамилией Телегин.
Я Сережу всегда любил, – говорил отец, – был рад каждому его приезду. Кроме того, комната в Протопоповском была куплена на деньги Телегина-старшего, и по справедливости была не столько моя, сколько его. Впрочем, ни Сережу, ни меня подобные вопросы тогда не волновали.
В Протопоповском Ирина родила тебя, а еще через три года – я уже работал на заводе в горячем цеху – Зорика. Периодически она не ночевала дома, иногда исчезала даже на несколько дней, однако я неудовольствия не выказывал. Мне с ней было хорошо, я был натурально влюблен, но, конечно, знал, что она относится ко мне куда сдержаннее. Это было видно по всему. Хотя с работой помогала, что писал – на своем “Ремингтоне” без раздражения перепечатывала»”.
На полях:
Следующий разговор для меня памятен. Именно тогда впервые зашла речь о второй жене отца Электры – Лидии Беспаловой. Позже, в последние год-полтора жизни Электры, без нее не будет обходиться ни один наш разговор. Ее отношения с Жестовским во всех смыслах выйдут на первый план.
Еще через пару дней снова за чаем я говорю: “Скажите, Электра, а ваш отец никогда не вел дневника? Ведь жизнь у него выдалась такая, о какой нечасто услышишь – четыре срока, пять следствий”.
Ее и вправду достаточно хорошо снабдили в дорогу, чтобы смотреть на взрослую жизнь без трепета. Умная, волевая, красивая, она, когда мы уже жили вместе, не раз говорила, что и в гимназии не сомневалась, что как у ее подруг сложится судьба, она, естественно, не знает: у кого-то, наверное, хорошо, у кого-то не очень, у нее же будет, как пожелает.
Повторяла, что даже Гражданская война далась ей легче истории с Троттом. Гражданская война была общим бедствием, и она, и другие понимали, что, когда вокруг разруха, голод, холод, вдобавок вши, испанка косит и косит людей, – всё в руках Божьих. С самого человека спрос невелик. Иное дело мастерская Тротта. Ей казалось, что здесь она всякий раз принимала верные решения. Например, вызвалась позировать барону.
Однажды прямо посреди семейной сцены твоя мать, – говорил отец, – остановилась и будто на уроке, спокойно, методично стала разбирать эти свои решения. Сначала сама с собой согласилась, что они были непростые. Но она, будто героиня французской революции, даже честью была готова пожертвовать ради общего блага. Это о позировании Тротту. Потому что деньги за работу были получены, частью и проедены, возвращать их нечем; если заказ сорвется, придется проститься с мастерской, а тогда где нам всем искать крышу над головой?
Но тут выясняется, что Тротт из-за каких-то своих мужских закидонов писать ее не может. То есть она позирует и он сутки напролет работает, но холсты выходят из рук вон плохие. Баб, с которыми барон не спит, которых, по его собственному выражению, он прежде не познал, не поимел, – он не понимает. В них для него нет жизни: не человеческая плоть, а кусок мяса. Соответствующий и результат.
Так что она, раз нам необходимо, чтобы заказ был сделан и принят, опять же во имя общего блага, готова и на другую жертву – лечь с Троттом в постель. То есть снова проблема не в ней, а в бароне. Она человек долга, человек слова, для нее надо – значит, надо, а он жил и живет в мире, где страшнее инцеста греха нет.
Вокруг режут, насилуют, убивают, вокруг самая настоящая революция, которая рушит, под самый корень крушит старый мир, а он уверовал в идиотские условности, его с них не сдвинуть. Кроме того, они ведь не детей собираются стряпать, единственное, что она хочет, это чтобы он убедился, что она живая, чтобы он ощупал ее и обмял, вошел в самое ее нутро, овладел со всеми потрохами, если надо, вывернул наизнанку и такую, которая теперь вся его, перенес на холст.
У якутки была подруга, – рассказывал отец, – которая первый аборт сделала еще в выпускном классе гимназии. Сейчас она была анархисткой и активным членом общества “Долой стыд”. Говорила, что на повестке дня у нас Рай, а в Раю Адам и Ева должны быть наги. Иногда целой ватагой они в чем мать родила вламывались в трамвай – толпа улюлюкала, плевалась, их щипали, лапали, поносили самыми грязными словами, но они не сдавались, через весь вагон прорывались на заднюю площадку.
Она уговаривала и якутку пойти с ними, но та пока не решалась. Единственное, что подруга ненавидела, была ревность, которая в минуту даже однопартийцев, братьев по оружию умеет сделать лютыми врагами. Говорила: почему бы мне не раздвинуть ножки, не дать товарищу по классовой борьбе, не доставить ему удовольствие? И чего ревновать – член не мыло, не измылится, и с моей щелью тоже ничего худого не приключится.
Голова мужчины должна быть забита не нашими грудками и попками, половая жизнь – такая же потребность, такая же нужда, как и всякая другая, справь свое дело и с новыми силами строй бесклассовое общество. Подруга, – объяснял дальше отец, – была посвящена во все отношения якутки и Тротта, естественно, полностью ее поддерживала, о бароне же отзывалась с презрением»”.
“С презрением подруга относилась к барону или нет, – продолжает Электра, – это ничего не меняло, было ясно, что место матери в его постели. Соблазнить Тротта, когда они работали, она и не пыталась. Пока она позировала, барон смотрел на нее едва ли не с ненавистью. Ему всё в ней не нравилось, всё казалось деланым, искусственным: и как она лежит, и как сидит, и как ходит.
Возможно, так и было. Мать искала, как угодить, но не хватало опыта. Кроме того, многодневные неудачи запугали ее до последней степени. Что бы барон ни говорил: «выпрямись», «немного откинься», «положи руки на грудь» – она от его вечно раздраженного голоса готова была расплакаться. Видит бог, она всё старалась сделать в лучшем виде, что называется, показаться, но против холста у нее не было шанса. На мольберте была очевидна неумелость, неуемность ее тела, его корявость и угловатость. Барону нужны были плавные линии, нужна была нежность и вкрадчивость.
Словно Тротт был не художник, а парфюмер, заказчики требовали, чтобы и самый воздух его картин был пропитан индийскими благовониями, от которых кружится голова, подкашиваются ноги, просили смешать их с ароматом дорогих сигар и старого коньяка, и, наверное, барон смог бы им угодить, но мать своим неловким, оттого несмелым телом ломала ему игру.
Тротт старался как мог: тяжелыми лоснящимися портьерами, плюшем кресел и козеток оттенял кружева вечерних платьев и тонкого белья, из вычурного гипюра мастерил для маленьких, но без сомнения красивых грудок своей натурщицы розетки, всё это венчал длинной изящной шеей и головкой с профессионально растрепанными локонами, но ничего путного не получалось. То есть так, один на один, взять барона матери было нечем. Но она не была бы восточной княжной, если бы и тут не нашла выхода. Во всяком случае, если бы не думала, что нашла. У якутки было два козыря, их она и решила разыграть.
Тротт много лет прожил в Японии, буквально бредил ею, а у материной подруги еще с довоенных лет сохранилось очень красивое кимоно настоящей японской работы: шелк, вручную расшитый красными драконами, прячущимися среди зеленых бамбуковых зарослей. «Вторым козырем был я, – рассказывал отец Электры, – смотревший на нее с вожделением, от которого оторопь брала. В общем, она решила, что из кимоно получится отличная приманка, а я сойду за живца, на нас обоих она и возьмет Тротта.
С двух до четырех барон отдыхал. У твоей матери вечно была бездна дел и, получив вольную, она обычно уходила из мастерской. Мы же с Троттом оставались дома: ели, если было что, пили чай и разговаривали. Очень часто о православном каноне – как и когда он складывался, об отцах церкви и литургике. Может, канон его и вправду интересовал, может, нравилось, что благодаря семинарии я в подобных вещах неплохо разбираюсь.
И вот с кружкой кипятка в руках мы ведем неспешную теологическую беседу, время примерно без пятнадцати четыре, то есть перерыв уже заканчивается и Тротту скоро к мольберту. Мать тоже должна появиться с минуты на минуту, ей еще надо раздеться, напудриться, подчеркнуть черной краской брови и красной – губы, в общем, привести себя в порядок – для всего этого барон в углу мастерской старыми холстами выгородил ей гримерную.
Она открывает дверь – и Тротт смотрит на часы: ее точностью он доволен. Потом я догадываюсь, что весь свой обеденный перерыв якутка провела у подруги, доводила до совершенства то, что последует дальше.
На ней японское кимоно с драконами, оно и вправду очень ей идет. Прежде так одетой Тротт ее никогда не видел и теперь смотрит на якутку с интересом. С большими раскосыми глазами и высокими скулами, вдобавок с волосами, уложенными как у настоящей гейши, она смотрится чистопородной японкой. Барону в новом обличье она явно нравится. Понимая, что это успех, – держит паузу, стоит минуту или две, дает нам возможность оценить и свой наряд, и макияж, главное, саму себя. Потом не в закутке за холстами, а прямо перед нами медленно, плавно начинает раздеваться. Достает, высвобождает из бесконечных складок шёлка гру?ди, живот, наконец бёдра и ноги.
Она видит, что я свою партию пока играю как надо, от ее щедрот глаз не могу оторвать, то есть мной она довольна и бароном тоже довольна – кимоно произвело впечатление. В общем, как будто всё идет хорошо, даже очень хорошо. Но, увы, она не знает, что это ее последний успех. Что полоса везения тут обрывается. И сейчас барон, даже не заметив, по?ходя на всю жизнь выбьет ее из седла. Потому что, едва она делается голой, Тротт о ней забывает, просто отворачивается.
Потом, – говорил отец, – когда мы уже жили вместе, я часто от нее слышал, что с моего согласия, больше того, при прямом моем попустительстве она и пошла по рукам. Где я был со своей любовью, когда она, еще невинная девушка, раздевалась для Тротта, когда только и думала, как с ним переспать? Без ропота, по первой просьбе принимала позы, на которые и проститутка не пойдет.
Короче, Тротт и я работали вдвоем, на пару сделали ее шалавой – один, причем бездарно, рисовал для борделя, а другой за обе щеки уплетал хлеб, которым она оплатила собственный позор. Впрочем, говорила мать, она и сейчас жалеет, что барон на нее не польстился, потому что та история сломала ее через колено. Так что люблю я ее или не люблю, кому это важно? Ничего хорошего у нас всё равно не получится.
Я понимаю, – говорит отец, – что в ее обвинениях была правда. В том, как началась ее взрослая жизнь, было много непростительного. Публичный дом, для которого Тротт ее рисовал, – заказчик покривился, покривился, но в конце концов три панно с твоей матерью взял, – закрылся только на исходе НЭПа. Не то чтобы среди наших знакомых были завсегдатаи подобных заведений, но Тротт хороший портретист, и ее узнавали.
У нас уже были и ты и Зорик – слыша перешептывания на свой счет, она буквально взрывалась. Помню, что однажды какая-то моя дальняя родня – приезжий с Украины – осторожно спросил, нет ли сестры, очень на нее похожей, – так его просто спустили с лестницы. В общем, Тротт и я были свидетелями унижения, которое ни забыть, ни простить она не могла. Будь мы по одиночке, мать со своим до крайности причудливым умом давно бы что-нибудь придумала, объяснила, в том числе и самой себе, что никакой мастерской никогда не было, но нас было двое, и с этой стереоскопичностью она не знала, что делать.
Между тем, – рассказывал отец, – в жизни Тротта наметились перемены. Кимоно стало последней каплей – барон осознал, что заказ горит ярким пламенем и, если он не хочет, чтобы мы в полном составе пошли по миру, необходимо что-то предпринять. Проблема решилась за один день, правда, Тротту для этого пришлось достать из кубышки страховую заначку – десять червонцев.
Человек прижимистый, барон тянул до последнего. А так заказчик подобрал в соседнем борделе, который, думаю, и содержал, для Тротта неплохую барышню – десяти червонцев хватило как раз на месяц. Девушка во всех отношениях была в его вкусе, главное же, у нее не было недостатков твоей матери. Сильная, красивая и очень яркая казачка, не знаю, что там намешалось, но восточной крови тоже было немало. Барышня рассказывала по-разному, но, кажется, одна ее бабка была турчанкой, а другая черкешенкой. С новой натурщицей дело сразу заладилось.
Наверстывая время, Тротт писал свою барышню весь световой день. Заплаченные за нее червонцы казачка отрабатывала и ночью. Барон, раздвинув холсты, в несколько раз увеличил закуток, в котором прежде была гримерная твоей матери, сколотил из брусьев и досок помост, – уложил на него два набитых ватой матраса, в итоге у них с казачкой получился уютный будуар.
Чтобы не путались под ногами, нас он отселил в глухой, без окон, угол мастерской. Мы сами отгородили его кусками фанеры, а затем занавеской поделили на две крохотные комнатушки. Оба, кажется, поначалу ликовали. Барон работал, а мы – каждый в собственной каморке – радовались жизни. Я читал, что делала мать, не знаю. Но ночью выяснялось, что и своя каморка еще не рай, в лучшем случае его преддверие.
По-видимому, Тротт был могуч или просто он изголодался за два месяца, что ему позировала твоя мать. Теперь, когда работа пошла, его отпустило и он во всех смыслах был на подъеме. Нас они, естественно, не стеснялись. Казачка кричала так, – рассказывал отец, – что мы до утра глаз не могли сомкнуть.
Мы с ней оба были девственниками, но скоро, как и что мужчина делает с женщиной в постели, знали до тонкостей. Нам казалось, что Тротт своей барышне не дает отдохнуть и минуты, мучает ее прямо с яростью, будто идет его последняя ночь. И ему хватало сил и на это, и на работу. Троттовскую мастерскую, – рассказывал отец, – я вспоминал, и когда мы уже жили с якуткой, даже по видимости всё у нас было неплохо, и когда она уходила к моему кузену Сергею Телегину. Вспоминал в тюрьме и на воле. Вывод всякий раз был один, он и сейчас кажется мне недалеким от истины.
Суть его в том, что как сложилось, так сложилось, никто из нас виноват ни в чем не был. Больше того, в обстоятельствах, в каких мы оказались, все вели себя вполне пристойно. И барон, который нас пустил жить к себе в мастерскую и почти год содержал. Кормил, поил, одевал на свой счет, что он не захотел спать с троюродной сестрой – ему ведь в вину не поставишь. В общем, чересчур похабное было время, а дальше – твоя мать права – ничего было не поправить.
Тревожит меня и другая мысль, – объяснял отец, – твой дед и мой отец Осип Жестовский настаивал и настоял, чтобы, прежде чем уйти в монастырь, я узнал жизнь. Только вряд ли он себе представлял эту мою жизнь. То, что он хотел, было из другого времени, общего – кот наплакал. И тут уже речь обо мне. Стоило ли в совсем новых декорациях продолжать следовать у него в кильватере? Но может, да, стоило.
Дожив в Белграде до конца тридцатых годов, твой дед ни разу мне не написал, что ошибся, что было бы куда лучше, прими я постриг. Ну тут другой вопрос – где: монастыри ведь позакрывали, а монахов поставили к стенке, будто белых в Крыму. Выходит, везде клин. Налево пойдешь, черт знает на что набредешь. И направо тоже не лучше.
Я о монашестве думал, – говорил отец, – и когда якутка от меня уходила и когда возвращалась, думал, когда она мне сказала, что мои дети на самом деле не мои, ей их сделал Сережа Телегин. И еще раньше, когда лежал у себя за занавесочкой в мастерской, а Тротт всё не мог успокоиться, до первых петухов мучал, мучал свою барышню.
Между тем работа была выполнена и триумфально сдана заказчику. Сорок огромных масел – два на три. Разврат во всех культурах и во всех его видах. Занимающиеся любовью индийские боги, греческие оргии, пляшущий вприпрыжку козлоногий Пан, окруженный сладострастными сиренами, и Вакх с вакханками, римские бани и лупанарии.
Сцен из жизни Вечного города была добрая половина. Пару лет назад барон по случаю прикупил альбом фресок из Помпей и Геркуланума. Теперь они пошли в ход, очень ускорили дело. Работы с твоей матерью Тротт переложил работами с новой натурщицей, заказчик взял все и заплатил даже щедрее, чем обещал. Вернул Тротту и его десять червонцев, отданные за барышню.
Началась сытая полоса. НЭП вошел в силу, рестораны открывались как грибы, и барон, уже сделавший себе имя, был нарасхват. Вдобавок пошли государственные заказы – тоже немалые. Например, барон, зазвав в помощники старого товарища по академии – одному было не справиться, – оформил физкультурный парад 1 Мая, который прошел на Красной площади. Как и рестораторы, его обнаженную или почти обнаженную натуру власть приняла на ура. В общем, к концу двадцать первого года Тротт имел на руках столько денег, что ребром встал вопрос, что с ними делать.
Заказов было много, прежнего куска мастерской ему не хватало, да и от нас он устал. Взвесив и одно и другое, барон пришел к выводу, что сейчас самое время решить проблему. И вот как-то, когда якутки не было дома, а мы с ним сидели за столом и пили уже не кипяток, а настоящий чай, вдобавок не с сахарином, а со всамделишным сахаром, барон сказал, что три года назад мой дядя подарил ему пятьдесят червонцев, на которые и была куплена мастерская. Теперь он может и хочет вернуть долг. Но, зная мою натуру, понимает: надолго мне червонцев не хватит – я их или раздам, или просто потеряю.
Поэтому, как и мой дядя, он рассудил, что недвижимость надежнее золота. Ее так просто в распыл не пустишь. И присмотрел для меня светлую сухую комнату в Протопоповском переулке. Большую комнату с двумя окнами. Но тут есть одна заковыка – сейчас всё вздорожало и владелец просит не пятьдесят, а восемьдесят червонцев.
На сегодня и восемьдесят червонцев для него не вопрос, в общем, он согласен добавить, с тем, однако, чтобы на Протопоповский я взял с собой и якутку. Комнату нетрудно перегородить, значит, мы сможем жить – хотим врозь, хотим вместе. Я сказал, что меня, ясное дело, этот вариант устраивает, но устроит ли он ее, не переговорив с ней, сказать не могу. Впрочем, и здесь легко сладилось: твоя мать предложению барона была явно рада.
Вещей у нас было немного, можно было собраться за час, но пока оформляли ордер, прошел месяц; переехали мы, только получив его на руки. На прощание фон Тротт сделал нам три роскошных подарка: выдал сухой паек, в нем хлеб, шматок сала на килограмм, чай, сахар и отчего-то небольшая бутылочка спирта. К пайку добавил американскую пишущую машинку “Ремингтон” в очень хорошем состоянии – мать в начале Гражданской войны занесло в Саратов, и там она в штабе атамана Дутова перепечатывала приказы. Барон про Дутова знал и, отдавая машинку, сказал, что с ней на кусок хлеба она всегда заработает.
Третий подарок ждал нас уже на Протопоповском – в комнате стояла широкая железная кровать с пружинками. Впрочем, кровать была только одна, и твоя мать так на меня посмотрела, что я сразу понял: спать буду на полу. Электрического тока не давали, светло было только рядом с окнами, но на улице быстро смеркалось, и мы, неизвестно куда спеша, каждый на своем куске подоконника стали раскладывать скарб, потом середину того же подоконника приспособили под стол, а позже разгородили комнату на две.
Ели, – рассказывал отец, – хлеб с салом, картошку, всё это на радостях запивая троттовским спиртом. Но или по незнанию недостаточно его разбавили, или с голодухи он как-то странно на нас подействовал, в общем, что было дальше, ни твоя мать, ни я не помнили. Хотя, думаю, дело было не в одном спирте, просто, насмотревшись, наслушавшись того, что творилось у барона, мы больше не могли поститься. И знали достаточно, чтобы никаких проблем не возникло. Выходит, нужда во второй кровати отпала. Правда, утром, – рассказывал отец дальше, – я, как ты понимаешь, в самом светлом состоянии духа сходил умыться, вернувшись же, вижу, что якутка, скрестив ноги, сидит в рубашке на постели и смотрит на меня злобным волчонком.
Я не удержался, говорю: “Знаешь ли, в соответствии с новым уставом Всероссийского комсомола, если комсомолец занимает активную жизненную позицию и регулярно платит членские взносы, любая комсомолка из их ячейки обязана отдаваться ему по первому требованию”. Но она только процедила: “Ты не комсомолец”, – укрылась с головой одеялом и отвернулась к стене. Когда же наконец соизволила встать, заявила, что никаких прав на нее я не имею, она намерена пользоваться полной свободой, моих клятв она, естественно, тоже не ждет.
Эти условия показались мне справедливыми, я легко на них согласился. Считал, что после того, через что мы оба прошли, серьезных обязательств у нее передо мной быть не может. Сам я изменять ей не собирался. А в остальном мы ладили, жили довольно мирно. Теперь у меня была своя крыша над головой и, когда у него в Москве были дела, у нас стал останавливаться мой двоюродный брат, сын дяди, известный цирковой акробат – он выступал под фамилией Телегин.
Я Сережу всегда любил, – говорил отец, – был рад каждому его приезду. Кроме того, комната в Протопоповском была куплена на деньги Телегина-старшего, и по справедливости была не столько моя, сколько его. Впрочем, ни Сережу, ни меня подобные вопросы тогда не волновали.
В Протопоповском Ирина родила тебя, а еще через три года – я уже работал на заводе в горячем цеху – Зорика. Периодически она не ночевала дома, иногда исчезала даже на несколько дней, однако я неудовольствия не выказывал. Мне с ней было хорошо, я был натурально влюблен, но, конечно, знал, что она относится ко мне куда сдержаннее. Это было видно по всему. Хотя с работой помогала, что писал – на своем “Ремингтоне” без раздражения перепечатывала»”.
На полях:
Следующий разговор для меня памятен. Именно тогда впервые зашла речь о второй жене отца Электры – Лидии Беспаловой. Позже, в последние год-полтора жизни Электры, без нее не будет обходиться ни один наш разговор. Ее отношения с Жестовским во всех смыслах выйдут на первый план.
Еще через пару дней снова за чаем я говорю: “Скажите, Электра, а ваш отец никогда не вел дневника? Ведь жизнь у него выдалась такая, о какой нечасто услышишь – четыре срока, пять следствий”.