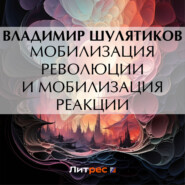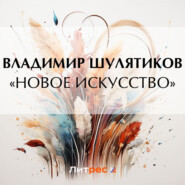По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Этапы новейшей русской лирики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она – из мрамора, немая Галатея,
А я – страдающий, любя, Пигмалион.
Источник печали – «бездушный сон»: «бойцу»-страдальцу противостоит царство «покоя».
На лоне этого царства поэт даже перестает быть человеком своей профессии: «покой» лишает его вдохновения. Последнее сопутствует ему лишь в городской обстановке – лишь в атмосфере страданий («где, что ни миг, то боль, что ни шаг, то зло»). В деревне же, «перед лицом сияющей природы», его Муза безмолвствует. «Дубравы тихий шум, и птиц веселый хор, и плещущие воды» не пробуждают его груди, не волнуют его ума. Природа мертва для него. И несомненнейшим доказательством ничтожества человеческого сердца он считает влияние, которое оказывают на психику явления природы, заставляют человека постоянно менять его настроения. «Скажи мне, к чему так ничтожно оно, наше сердце, – что даже и мертвой природе (то есть покою) волновать его чуткие струны дано» («Осень, поздняя осень!..»).
Резкое противопоставление страдающего «я» мертвой природы – вот формула, которою поэт сообщает свои наиболее пессимистические переживания. «Зачем ты призван в мир? К чему твои страданья, любовь и ненависть, сомненья и мечты, в безгрешно-правильной машине мирозданья»… («Случалось ли тебе бессонными ночами»…) Мирозданье имеет, в глазах Надсона, ценность лишь постольку, поскольку в недрах его разыгрывается драма страданий. Но страдания могут прекратиться, человечество достигнет всего, во имя чего оно борется, наступит эпоха «вечного рая», мир «зацветет бессмертною весною», до эта «бессмертная весна», этот «вечный рай» лишь выявят окончательно «мертвый» характер безгрешно-правильной машины мирозданья. Поэт влагает в уста обитателю «вечного рая» трагический, «ножом пронзающий» вопрос: «Для чего и жертвы и страданья? Для чего так поздно понял я, что в борьбе и смуте мирозданья цель одна – покой небытия?» («Грядущее».)
Возвращаемся к области эстетики.
Герострат сделал великое открытие: он нашел «тайный яд в дыхании цветов». Из сказанного на предыдущих страницах видно, что это за яд: яд – успокоение, которое предметы, возбуждающие эстетическую эмоцию, вносят в душу «бойца». Именно о подобном яде повествует, например, самое прославленное из надсоновских стихотворений. «Цветы». Почему поэт бежит от цветов? Присмотритесь к штрихам, какими цветы описаны. Они цветут в сиянии ламп, разливающих «мягкий свет». Они «нежат глаз»; они «сладко веют в душу весною», «зачаровывают». Глядя на них, поэт погружается в идиллическое настроение. Ему чудится «ручья дремотное журчанье», «птиц веселый гам»; «занявшейся зари стыдливое мерцанье», он ждет, что вот-вот повеет «ласковый ветерок», «узорную листву лениво колыхая». Все это штрихи, говорящие как раз о состоянии покоя. Опять роковой призрак. Надеон спешит отмахнуться от него и выдвигает его естественный контраст. «Как!.. В эту ночь, окутанною мглою, здесь, рядом с улицей, намокшей под дождем, дышать таким бесстыдным торжеством, сиять такою наглой красотою»… Отрицательное отношение к цветам диктуется тем же самым мотивом, исходя из которого певец «благодатных страданий» осудил идею «нового мира». «Бесстыдное торжество» цветов – синоним «пира сытого чувства». И в постановке вопроса характерным является то, что интерес для Надсона сосредоточен не в улице самой по себе, не в ее обитателях, ни в ее невзгодах: стихотворение дает нам не более как картинку индивидуальных переживаний поэта; это одна из многочисленных вариации славословия в честь страданий; в честь «профессионального качества», отмечающего избранные натуры.
«Язвы прикрыты цветами». Опять «тайный яд в дыхании цветов», опять во имя «яда» Надсон ополчается против «цветов». Плавные строки «ласкают», как узор – глаз; мелодия скрывает собой диссонанс страданий. «Безгрешно-правильное» строение стиха противоречит тому содержанию, которое должно быть в него вложена. Роковой призрак воплощается в ритм и гармонию. Гармония опять-таки рассматривается как один из возможных источников «успокоения». Песнь, звучащая «как тихое журчание ручья», песнь, уносящая в мир фантазии, «где нет ни жгучих слез, ни муки, где красота, любовь, забвенье и покой», – такова точное определение чистой поэзии, данное Надсоном («Поэт»). Понятно, что определяемая подобным образом «мелодия стройных речей» на рынке «страдальческих» ценностей представляет собой лишь отрицательную величину.
II
На активе надеоновской поэзии имеются, однако, не одни названные ценности. Жрец музы, украшенной «терновым венком», «могильщик цветов» и всего, что сколько-нибудь напоминает об «успокоении», одновременно с тем чтит также музу отвергаемой им красоты и гармонии, насаждает им же самим срываемые цветы, выступает в качестве решительного проповедника «покоя», – одним словом, оказывается в непримиримом противоречии с самим собою, оказывается двуликим Янусом.
Сопоставьте с охарактеризованным выше поэтическим credo такого рода недвусмысленное заявление: «не упрекай себя за то, что ты порою даешь покой душе от дум и от тревог… что песню любишь ты и, молча ей внимая… позабываешь ты, отрадно отдыхая, призыв рабочего, немедлящего дня… что властно над тобой мирящее искусство, и красота тебе внятна и не чужда»… Или, вслед за стихотворениями, содержащими осуждение «мелодии стройных речей», прочтите фантазию «Мелодия». «Я б умереть желал на крыльях наслажденья»: там поэт мечтает о «ленивом полусне», тишине дремлящего запущенного сада, таинственном журчанья ручья, торжественном молчаньи небосклона, сладкой истоме прощанья с землей, то есть о такой идиллии покоя, которую «боец» считает для себя абсолютно недопустимой.
Примеры эти нельзя, конечно, рассматривать как свидетельство о слабости поэта, уклоняющегося минутами с избранного им сурового пути. Против подобного толкования говорит длинный ряд стихотворений. Они доказывают, что положительная оценка «чистой» поэзии не была чуждой Надсону на всем протяжении его поэтической деятельности.
В тот самый момент, когда он оформляет свое боевое profession de foi, выдвигает идеал поэзии «борьбы», одновременно, в рамках того же самого стихотворения, он развивает и противоположную платформу. Обе точки зрения изложены вне всякой зависимости одна от другой; сравнения между ними не делается. И та и другая оказываются одинаково приемлемыми. Из других стихотворений мы узнаем: во-первых, что за второй платформой он признает историческую давность (тогда как «поэзию скорбей» он считает продуктом последнего времени). «За много лет назад» из тихой сени рая, в венке душистых роз, с улыбкой молодой, она сошла в наш мир, прелестная, нагая… Она несла с собой неведомые чувства, гармонию небес и преданность мечте, – и был закон ее – искусство для искусства»… Но венок с ее головы сорвало, темное облако скорби омрачило ее «девственно-прекрасные» черты: «и прежних гимнов нет» («Поэзия»). Во-вторых, как явствует уж из приведенного примера, поэт проникнут весьма теплым чувством к райской гостье. Он скорбит по поводу происшедшей с нею катастрофы. Неприятно поражен поэт, когда его взорам открывается больной, некрасивый облик его богини («Муза»), которую он надеялся увидеть молодой, цветущей. И музе приходится почти оправдываться за то, что она обманула грезы своего служителя. Констатируя, что прежняя поэзия умерла, что нельзя вдохновения искать теперь «средь безжизненной мертвой природы», то есть развивая один из своих «страдальческих» мотивов, Надеон, тем не менее, не забывает сделать оговорки, переносящей нас в область мотивов иного рода: он высказывает сожаление, что чистой поэзии теперь нет, что «наши черствые дни» похоронили ее («Нет, не ищи ее в дыхании цветов»…).
Или, произнося надгробное слово своей музе («Умерла моя муза») и выясняя, чем она была для него, поет отмечает единственно силу ее фантазии. «В былые годы сколько тайн и чудес совершалось в убогой каморке моей». Стоит ему захотеть, и над ним развернется «сверкающий купол небес», и «раскинется даль серебристых озер, и блеснут колоннады роскошных дворцов»… Между тем мы могли бы ожидать характеристики в роде той, какая сделана, например, в стихе «Муза». И это не риторика, не простой поэтический шаблон, а знаменательное признание.
На самом деле, в лице Надсона мы имеем, наряду с поэтом «благодатных страданий», поэта, воскрешающего и узаконяющего, после эпохи 60–70-х годов, значение «чисто поэтических элементов», – «чистой» фантазии и «чистой» красоты. Куполы небес, дали озер, и т. д., действительно, являются обычными объектами его художественного изображения. А «мечты» – его любимые спутницы. Он гордится, что богат ими. «Нищий радостью, я был богат мечтами»; они посещали его с младенчества, «сверкая бесшумными крылами», сыпали цветы на его ложе, «ложе дум, томленья и скорбей» («Женщина»). «Язвы прикрываются цветами», и поэт не протестует. Напротив, он способен негодовать на тех, кто дерзнет оборвать эти «цветы». «Пусть нас давят угрюмые своды тюрьмы, – мы сумеем их скрыть за цветами, пусть в них царство мышей, паутины и тьмы, мы спугнем это царство огнями!» Пусть гнетут цепи, – зато существуют грезы. «Что ей цепь?.. Цепь она, как бечевку, порвет и умчится свободнее птицы». Греза и в тюрьму принесет рай лучезарный, красоты природы, ароматную весну. Пусть узникам остается прожить одну только ночь: они насладятся полнотою радостных и светлых переживаний. И горе разрушителям грезы! «Да будет позор и несчастье тому, кто, осмелившись сесть между нами, станет видеть унрямо все ту же тьрюму за сплетенными сетью цветами» («Мгновенье»). «Жить, полной жизнью жить!» Пусть завтра – конец, но… «День сегодня мне так радостно смеется, так чудно дышит сад и негой и весной». Мало того, во имя «неги и весны» поэт становится на почву наиболее радикальной антитезы самому себе – приветствует идеал социалистического мира, Что именно решающую роль имеет в данном случае для него «нега и весна», об этом красноречиво свидетельствует «Весенняя сказка». Вспомните интродукцию к ней. Дается описание «чудного светлого мира». Там царство радостной вечной весны, роз, мраморных статуй, серебряных фонтанов.
У подножья скал – сверкающее море…
Тихо льнет к утесам сонная волна
И, отхлынув, тонет в голубом просторе,
И до дна прозрачна в море глубина…
И лесная чаща, да лазурь морская,
Как в объятьях держат, дивную страну,
Тишиной своею чутко охраняя
И в ее пределах – ту же тишину.
Правда, тот сон, которым окутан замок, – дело рук злого чародея, символ атмосферы «слез и горя, мести и борьбы» – явление в данном случае для Надсона совершенно отрицательное, но панорама, окружающая замок, ничего общего с этим сном не имеет. Повторяем, означенная панорама – типичная для известных настроений поэта «нега». Грань современных социальных отношений должна быть, по его мнению, пройдена, именно потому, что за этой гранью человечество ждут «тишина» и «покой».
Охарактеризовав десную и шуйцу Надсона, резкую антиномичность его настроений, нам надлежит теперь разобраться в источниках этой антиномичности.
III
Самое простое решение вопроса было бы таково: Надсон – Bestimmungsmensch[9 - «Человек настроения».], человек, высказывания которого определяются всецело флотирующими настроениями, определяются его слишком повышенной нервностью. Сам Надсон как бы дает достаточное основание для подобного объяснения. Он ставит свои оптимистические и пессимистические воззрения в связь с феноменами природы. «Над хмурой землею неподвижно и низко висят облака; желтый лес отуманен свинцового мглою, в желтый берег безумолку бьется река»… И тогда в сердце поэта – грустные думы; тогда жизнь представляется цепью, гнетущей, как тяжелое бремя. Но стоит весне повеять дыханием мая, стоит в лазури промчаться грозе молодой, – сердце поэта мгновенно преображается: оно снова «запросится в ясную даль», снова верит «в далекое счастье». Отсюда ультра-пессимистический вывод относительно человеческой натуры: «Но скажи мне, к чему так ничтожно оно, наше сердце, – что даже и мертвой природе волновать его чуткие струны дано, и то к смерти манит, то к любви и свободе?» Ничтожество сердца характеризуется еще ближе: «и к чему в нем так беглы любовь и тоска, как ненастной и хмурой осенней порою этот белый туман над свинцовой рекою или эти седые над ней облака?» («Осень, поздняя осень».)
Далее можно было бы сослаться на болезнь, сведшую поэта в могилу, и первоисточником как пессимистического колорита его поэзии, так и противоречивости мотивов ее признать чахоточные переживания. И та и другая точка зрения одинаково несостоятельны.
Прежде всего, относительно возможности осветить вопрос с помощью невропатологического анализа. Несомненно опытный глаз врача-специалиста найдет для себя многое в произведениях Надсона. Несомненно также чахотка наложила свою печать на его творчество. Но отсюда еще очень далеко до критической оценки его поэзии. Содержание последней отнюдь не создано ни чахоткой, ни нервозностью поэта. Чахотка… Но почему ж в таком случае, например, чахоточный Добролюбов[10 - Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – известный прогрессивный критик-публицист 60-х годов. В своих работах настойчиво проводил теорию «искусства для жизни» и придерживался так называемой «реальной критики». Стихи и беллетристические опыты, послужившие началом литературной деятельности Добролюбова, незначительны. Повести и рассказы общественно-обличительного характера Добролюбов печатал на страницах «Современника».] в своей прозе и в своих стихах не дал ничего похожего на мотивы надсоновского творчества? Повышенная нервозность… – здесь даю обстоит, на первый взгляд, несколько серьезнее. Существует и развивается в области литературной критики течение, выдвигающее вперед именно патологию, сводящее задачи литературного исследования к постановке диагноза нервной и психической болезни, подмеченной у того или иного писателя. «Патологическое в творчестве» Ибсена[11 - Ибсен Генрих (1828–1906) – знаменитый норвежский драматург, выразитель индивидуалистического аристократизма. Его драмы: «Бранд», «Пер Гюнт», «Доктор Штокман», «Дом куколки» и др. – воплощение ницшеановского сверхчеловека, протестующего, необузданного индивидуализма.], или Ницше[12 - Ницше Фридрих (1884–1900) – известный немецкий писатель-мыслитель, наиболее яркий представитель философии пессимистического скептицизма и крайнего индивидуализма.], или Гоголя, или Достоевского – такого рода трактатами непрерывно обогащается книжный рынок.
Но, параллельно о разрешением прав невро– и психопатологического анализа на область литературной критики, в недрах самой невропатологии и психопатологического анализа на область литературной критики, в недрах самой невропатологии и психиатрии наблюдается знаменательная тенденция. Невропатологи и психиатры начинают – правда, очень медленно – становиться па путь социологического объяснения. Появляются работы Duprat: «Causes sociales de la folie» или Hellpach: «Nervositat mid Kultur». В этих работах прежней невропатологии и психиатрии выдается testimonium paupertatis. Названные науки лишаются самодовлеющею характера, перестают быть дисциплинами an und fur sich. При этом, как и следовало ожидать на основании примеров, имеющих место в других науках, вступление на новый путь нельзя считать особенно удачным. Получилось то, что обычно получается с представителями буржуазной учености, начинающими оперировать с социологическими понятиями. Познакомьтесь хотя бы с трактатом Duprat, и вы увидите, что это за «causes folies». Полнейшая путаница в понимании этих causes, – простое жонглирование с неопределенным понятием «общества», пользование одновременно различными рядами социально-экономических отношений в качестве Bestim-mungsgrund'a[13 - В качестве «основной причины».].
А я – страдающий, любя, Пигмалион.
Источник печали – «бездушный сон»: «бойцу»-страдальцу противостоит царство «покоя».
На лоне этого царства поэт даже перестает быть человеком своей профессии: «покой» лишает его вдохновения. Последнее сопутствует ему лишь в городской обстановке – лишь в атмосфере страданий («где, что ни миг, то боль, что ни шаг, то зло»). В деревне же, «перед лицом сияющей природы», его Муза безмолвствует. «Дубравы тихий шум, и птиц веселый хор, и плещущие воды» не пробуждают его груди, не волнуют его ума. Природа мертва для него. И несомненнейшим доказательством ничтожества человеческого сердца он считает влияние, которое оказывают на психику явления природы, заставляют человека постоянно менять его настроения. «Скажи мне, к чему так ничтожно оно, наше сердце, – что даже и мертвой природе (то есть покою) волновать его чуткие струны дано» («Осень, поздняя осень!..»).
Резкое противопоставление страдающего «я» мертвой природы – вот формула, которою поэт сообщает свои наиболее пессимистические переживания. «Зачем ты призван в мир? К чему твои страданья, любовь и ненависть, сомненья и мечты, в безгрешно-правильной машине мирозданья»… («Случалось ли тебе бессонными ночами»…) Мирозданье имеет, в глазах Надсона, ценность лишь постольку, поскольку в недрах его разыгрывается драма страданий. Но страдания могут прекратиться, человечество достигнет всего, во имя чего оно борется, наступит эпоха «вечного рая», мир «зацветет бессмертною весною», до эта «бессмертная весна», этот «вечный рай» лишь выявят окончательно «мертвый» характер безгрешно-правильной машины мирозданья. Поэт влагает в уста обитателю «вечного рая» трагический, «ножом пронзающий» вопрос: «Для чего и жертвы и страданья? Для чего так поздно понял я, что в борьбе и смуте мирозданья цель одна – покой небытия?» («Грядущее».)
Возвращаемся к области эстетики.
Герострат сделал великое открытие: он нашел «тайный яд в дыхании цветов». Из сказанного на предыдущих страницах видно, что это за яд: яд – успокоение, которое предметы, возбуждающие эстетическую эмоцию, вносят в душу «бойца». Именно о подобном яде повествует, например, самое прославленное из надсоновских стихотворений. «Цветы». Почему поэт бежит от цветов? Присмотритесь к штрихам, какими цветы описаны. Они цветут в сиянии ламп, разливающих «мягкий свет». Они «нежат глаз»; они «сладко веют в душу весною», «зачаровывают». Глядя на них, поэт погружается в идиллическое настроение. Ему чудится «ручья дремотное журчанье», «птиц веселый гам»; «занявшейся зари стыдливое мерцанье», он ждет, что вот-вот повеет «ласковый ветерок», «узорную листву лениво колыхая». Все это штрихи, говорящие как раз о состоянии покоя. Опять роковой призрак. Надеон спешит отмахнуться от него и выдвигает его естественный контраст. «Как!.. В эту ночь, окутанною мглою, здесь, рядом с улицей, намокшей под дождем, дышать таким бесстыдным торжеством, сиять такою наглой красотою»… Отрицательное отношение к цветам диктуется тем же самым мотивом, исходя из которого певец «благодатных страданий» осудил идею «нового мира». «Бесстыдное торжество» цветов – синоним «пира сытого чувства». И в постановке вопроса характерным является то, что интерес для Надсона сосредоточен не в улице самой по себе, не в ее обитателях, ни в ее невзгодах: стихотворение дает нам не более как картинку индивидуальных переживаний поэта; это одна из многочисленных вариации славословия в честь страданий; в честь «профессионального качества», отмечающего избранные натуры.
«Язвы прикрыты цветами». Опять «тайный яд в дыхании цветов», опять во имя «яда» Надсон ополчается против «цветов». Плавные строки «ласкают», как узор – глаз; мелодия скрывает собой диссонанс страданий. «Безгрешно-правильное» строение стиха противоречит тому содержанию, которое должно быть в него вложена. Роковой призрак воплощается в ритм и гармонию. Гармония опять-таки рассматривается как один из возможных источников «успокоения». Песнь, звучащая «как тихое журчание ручья», песнь, уносящая в мир фантазии, «где нет ни жгучих слез, ни муки, где красота, любовь, забвенье и покой», – такова точное определение чистой поэзии, данное Надсоном («Поэт»). Понятно, что определяемая подобным образом «мелодия стройных речей» на рынке «страдальческих» ценностей представляет собой лишь отрицательную величину.
II
На активе надеоновской поэзии имеются, однако, не одни названные ценности. Жрец музы, украшенной «терновым венком», «могильщик цветов» и всего, что сколько-нибудь напоминает об «успокоении», одновременно с тем чтит также музу отвергаемой им красоты и гармонии, насаждает им же самим срываемые цветы, выступает в качестве решительного проповедника «покоя», – одним словом, оказывается в непримиримом противоречии с самим собою, оказывается двуликим Янусом.
Сопоставьте с охарактеризованным выше поэтическим credo такого рода недвусмысленное заявление: «не упрекай себя за то, что ты порою даешь покой душе от дум и от тревог… что песню любишь ты и, молча ей внимая… позабываешь ты, отрадно отдыхая, призыв рабочего, немедлящего дня… что властно над тобой мирящее искусство, и красота тебе внятна и не чужда»… Или, вслед за стихотворениями, содержащими осуждение «мелодии стройных речей», прочтите фантазию «Мелодия». «Я б умереть желал на крыльях наслажденья»: там поэт мечтает о «ленивом полусне», тишине дремлящего запущенного сада, таинственном журчанья ручья, торжественном молчаньи небосклона, сладкой истоме прощанья с землей, то есть о такой идиллии покоя, которую «боец» считает для себя абсолютно недопустимой.
Примеры эти нельзя, конечно, рассматривать как свидетельство о слабости поэта, уклоняющегося минутами с избранного им сурового пути. Против подобного толкования говорит длинный ряд стихотворений. Они доказывают, что положительная оценка «чистой» поэзии не была чуждой Надсону на всем протяжении его поэтической деятельности.
В тот самый момент, когда он оформляет свое боевое profession de foi, выдвигает идеал поэзии «борьбы», одновременно, в рамках того же самого стихотворения, он развивает и противоположную платформу. Обе точки зрения изложены вне всякой зависимости одна от другой; сравнения между ними не делается. И та и другая оказываются одинаково приемлемыми. Из других стихотворений мы узнаем: во-первых, что за второй платформой он признает историческую давность (тогда как «поэзию скорбей» он считает продуктом последнего времени). «За много лет назад» из тихой сени рая, в венке душистых роз, с улыбкой молодой, она сошла в наш мир, прелестная, нагая… Она несла с собой неведомые чувства, гармонию небес и преданность мечте, – и был закон ее – искусство для искусства»… Но венок с ее головы сорвало, темное облако скорби омрачило ее «девственно-прекрасные» черты: «и прежних гимнов нет» («Поэзия»). Во-вторых, как явствует уж из приведенного примера, поэт проникнут весьма теплым чувством к райской гостье. Он скорбит по поводу происшедшей с нею катастрофы. Неприятно поражен поэт, когда его взорам открывается больной, некрасивый облик его богини («Муза»), которую он надеялся увидеть молодой, цветущей. И музе приходится почти оправдываться за то, что она обманула грезы своего служителя. Констатируя, что прежняя поэзия умерла, что нельзя вдохновения искать теперь «средь безжизненной мертвой природы», то есть развивая один из своих «страдальческих» мотивов, Надеон, тем не менее, не забывает сделать оговорки, переносящей нас в область мотивов иного рода: он высказывает сожаление, что чистой поэзии теперь нет, что «наши черствые дни» похоронили ее («Нет, не ищи ее в дыхании цветов»…).
Или, произнося надгробное слово своей музе («Умерла моя муза») и выясняя, чем она была для него, поет отмечает единственно силу ее фантазии. «В былые годы сколько тайн и чудес совершалось в убогой каморке моей». Стоит ему захотеть, и над ним развернется «сверкающий купол небес», и «раскинется даль серебристых озер, и блеснут колоннады роскошных дворцов»… Между тем мы могли бы ожидать характеристики в роде той, какая сделана, например, в стихе «Муза». И это не риторика, не простой поэтический шаблон, а знаменательное признание.
На самом деле, в лице Надсона мы имеем, наряду с поэтом «благодатных страданий», поэта, воскрешающего и узаконяющего, после эпохи 60–70-х годов, значение «чисто поэтических элементов», – «чистой» фантазии и «чистой» красоты. Куполы небес, дали озер, и т. д., действительно, являются обычными объектами его художественного изображения. А «мечты» – его любимые спутницы. Он гордится, что богат ими. «Нищий радостью, я был богат мечтами»; они посещали его с младенчества, «сверкая бесшумными крылами», сыпали цветы на его ложе, «ложе дум, томленья и скорбей» («Женщина»). «Язвы прикрываются цветами», и поэт не протестует. Напротив, он способен негодовать на тех, кто дерзнет оборвать эти «цветы». «Пусть нас давят угрюмые своды тюрьмы, – мы сумеем их скрыть за цветами, пусть в них царство мышей, паутины и тьмы, мы спугнем это царство огнями!» Пусть гнетут цепи, – зато существуют грезы. «Что ей цепь?.. Цепь она, как бечевку, порвет и умчится свободнее птицы». Греза и в тюрьму принесет рай лучезарный, красоты природы, ароматную весну. Пусть узникам остается прожить одну только ночь: они насладятся полнотою радостных и светлых переживаний. И горе разрушителям грезы! «Да будет позор и несчастье тому, кто, осмелившись сесть между нами, станет видеть унрямо все ту же тьрюму за сплетенными сетью цветами» («Мгновенье»). «Жить, полной жизнью жить!» Пусть завтра – конец, но… «День сегодня мне так радостно смеется, так чудно дышит сад и негой и весной». Мало того, во имя «неги и весны» поэт становится на почву наиболее радикальной антитезы самому себе – приветствует идеал социалистического мира, Что именно решающую роль имеет в данном случае для него «нега и весна», об этом красноречиво свидетельствует «Весенняя сказка». Вспомните интродукцию к ней. Дается описание «чудного светлого мира». Там царство радостной вечной весны, роз, мраморных статуй, серебряных фонтанов.
У подножья скал – сверкающее море…
Тихо льнет к утесам сонная волна
И, отхлынув, тонет в голубом просторе,
И до дна прозрачна в море глубина…
И лесная чаща, да лазурь морская,
Как в объятьях держат, дивную страну,
Тишиной своею чутко охраняя
И в ее пределах – ту же тишину.
Правда, тот сон, которым окутан замок, – дело рук злого чародея, символ атмосферы «слез и горя, мести и борьбы» – явление в данном случае для Надсона совершенно отрицательное, но панорама, окружающая замок, ничего общего с этим сном не имеет. Повторяем, означенная панорама – типичная для известных настроений поэта «нега». Грань современных социальных отношений должна быть, по его мнению, пройдена, именно потому, что за этой гранью человечество ждут «тишина» и «покой».
Охарактеризовав десную и шуйцу Надсона, резкую антиномичность его настроений, нам надлежит теперь разобраться в источниках этой антиномичности.
III
Самое простое решение вопроса было бы таково: Надсон – Bestimmungsmensch[9 - «Человек настроения».], человек, высказывания которого определяются всецело флотирующими настроениями, определяются его слишком повышенной нервностью. Сам Надсон как бы дает достаточное основание для подобного объяснения. Он ставит свои оптимистические и пессимистические воззрения в связь с феноменами природы. «Над хмурой землею неподвижно и низко висят облака; желтый лес отуманен свинцового мглою, в желтый берег безумолку бьется река»… И тогда в сердце поэта – грустные думы; тогда жизнь представляется цепью, гнетущей, как тяжелое бремя. Но стоит весне повеять дыханием мая, стоит в лазури промчаться грозе молодой, – сердце поэта мгновенно преображается: оно снова «запросится в ясную даль», снова верит «в далекое счастье». Отсюда ультра-пессимистический вывод относительно человеческой натуры: «Но скажи мне, к чему так ничтожно оно, наше сердце, – что даже и мертвой природе волновать его чуткие струны дано, и то к смерти манит, то к любви и свободе?» Ничтожество сердца характеризуется еще ближе: «и к чему в нем так беглы любовь и тоска, как ненастной и хмурой осенней порою этот белый туман над свинцовой рекою или эти седые над ней облака?» («Осень, поздняя осень».)
Далее можно было бы сослаться на болезнь, сведшую поэта в могилу, и первоисточником как пессимистического колорита его поэзии, так и противоречивости мотивов ее признать чахоточные переживания. И та и другая точка зрения одинаково несостоятельны.
Прежде всего, относительно возможности осветить вопрос с помощью невропатологического анализа. Несомненно опытный глаз врача-специалиста найдет для себя многое в произведениях Надсона. Несомненно также чахотка наложила свою печать на его творчество. Но отсюда еще очень далеко до критической оценки его поэзии. Содержание последней отнюдь не создано ни чахоткой, ни нервозностью поэта. Чахотка… Но почему ж в таком случае, например, чахоточный Добролюбов[10 - Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – известный прогрессивный критик-публицист 60-х годов. В своих работах настойчиво проводил теорию «искусства для жизни» и придерживался так называемой «реальной критики». Стихи и беллетристические опыты, послужившие началом литературной деятельности Добролюбова, незначительны. Повести и рассказы общественно-обличительного характера Добролюбов печатал на страницах «Современника».] в своей прозе и в своих стихах не дал ничего похожего на мотивы надсоновского творчества? Повышенная нервозность… – здесь даю обстоит, на первый взгляд, несколько серьезнее. Существует и развивается в области литературной критики течение, выдвигающее вперед именно патологию, сводящее задачи литературного исследования к постановке диагноза нервной и психической болезни, подмеченной у того или иного писателя. «Патологическое в творчестве» Ибсена[11 - Ибсен Генрих (1828–1906) – знаменитый норвежский драматург, выразитель индивидуалистического аристократизма. Его драмы: «Бранд», «Пер Гюнт», «Доктор Штокман», «Дом куколки» и др. – воплощение ницшеановского сверхчеловека, протестующего, необузданного индивидуализма.], или Ницше[12 - Ницше Фридрих (1884–1900) – известный немецкий писатель-мыслитель, наиболее яркий представитель философии пессимистического скептицизма и крайнего индивидуализма.], или Гоголя, или Достоевского – такого рода трактатами непрерывно обогащается книжный рынок.
Но, параллельно о разрешением прав невро– и психопатологического анализа на область литературной критики, в недрах самой невропатологии и психопатологического анализа на область литературной критики, в недрах самой невропатологии и психиатрии наблюдается знаменательная тенденция. Невропатологи и психиатры начинают – правда, очень медленно – становиться па путь социологического объяснения. Появляются работы Duprat: «Causes sociales de la folie» или Hellpach: «Nervositat mid Kultur». В этих работах прежней невропатологии и психиатрии выдается testimonium paupertatis. Названные науки лишаются самодовлеющею характера, перестают быть дисциплинами an und fur sich. При этом, как и следовало ожидать на основании примеров, имеющих место в других науках, вступление на новый путь нельзя считать особенно удачным. Получилось то, что обычно получается с представителями буржуазной учености, начинающими оперировать с социологическими понятиями. Познакомьтесь хотя бы с трактатом Duprat, и вы увидите, что это за «causes folies». Полнейшая путаница в понимании этих causes, – простое жонглирование с неопределенным понятием «общества», пользование одновременно различными рядами социально-экономических отношений в качестве Bestim-mungsgrund'a[13 - В качестве «основной причины».].