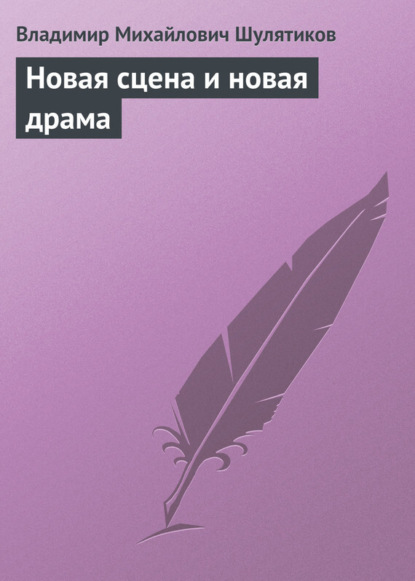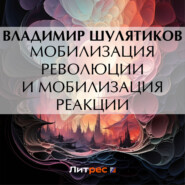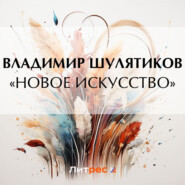По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новая сцена и новая драма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Раз дело обстоит так, раз генезис самых образов из наличности известного болезненного состояния не выясняется, то, следовательно, оперируя в границах психиатрического рассмотрения, литературная критика осуждает себя на бесплодие, уподобляется белке в колесе. Необходим выход из клетки с колесом: другими словами, требуется исследовать, при каких нормальных психических условиях рождается тот или иной образ или символ. А это, в свою очередь, можно сделать лишь перейдя на почву социально-экономического анализа.
Возьмем фигуру Некто в сером. Отбросим фантастический покров, ее окутывающий, и ответим на вопрос: что может означать она, будучи изобретена нормальным воображением нормального художника?
Следует обратиться к источнику андреевского пессимизма. Здесь мы не можем останавливаться на подробной характеристике последнего и должны ограничиться несколькими словами. Л. Андреев пессимист постольку, поскольку он видит в жизни торжество «ничтожества». «Ничтожество» – вот его злейший враг, вот, по его мнению, корень всех человеческих бедствий. Человек может быть достоин имени человека лишь в том случае, если он талантлив, если он высоко подымается над уровнем посредственности, если он не похож на других. «Талант – ведь это больше жизни» («Жизнь Человека»). И несчастен тот, чье существование сводится к однообразному, будничному прозябанию, к «мещанской» обыденщине, к сплетениям «ничтожных желаний и мелких забот», кто принадлежит к «толпе», кто представляет из себя полезность «илота», «раба». Андреевское миросозерцание воспроизводит ницшеанскую антитезу «рабов» и «господ», «слабых» и «сильных». Л. Андреев развенчивает короля («Так было») только потому, что он оказывается ничтожеством. Аналогичное соображение заставляет его произвести аналогичную оценку демоса (ibid). Самое сильное обвинение, которое Человек кидает в лицо судьбе – это обвинение в косности. И фигура Некто в сером – не что иное как конкретизация всего ничтожного, всего однообразного, всего лишенного индивидуальности, всего, что напоминает «толпу». Это – наиболее абстрактная из возможных абстракций толпы.
Сильные и талантливые победителями на жизненном пиру не являются. Они гибнут в борьбе с толпой. Толпа диктует свои законы человечеству. Потому в образе Некто в сером она возведена на пьедестал божества.
Условия, определявшие происхождение анализируемого образа, как явствует из сказанного сейчас, ничего общего с патологией не имеют. Читатель уже, наверное, догадался, что это за условия. Протест против «толпы» и культа «таланта», т. е. высокой «квалификации» заставляют нас припомнить отличительные черты новейшей индустрии. Опять мы возвращаемся к тому, о чем все время говорили, – к вопросу об «опростительных» тенденциях капиталистического производства.
Но эти тенденции характеризуют промышленность прогрессирующую вперед, а не отсталую. Следовательно, идеологи авангарда современной капиталистической буржуазии должны, в своих произведениях, слагать гимн новой, развивающейся, торжествующей жизни. Между тем, как доказывают психиатры, «туманы» и «стены» абуликов свидетельствуют о потере способности приспособляться к новым формам жизни, об ее распаде, а не об ее развитии. Психиатрия опять, по-видимому, выступает против социологии, опять, по-видимому, грозит обесценить социально-экономические объяснения. Но опять только по-видимому. «Опрощение» производства осуществляется помощью технического прогресса и, в то же время, на счет сокращения рабочего персонала в рамках отдельных предприятий. Идеологи передового отряда буржуазии должны отметить и это обстоятельство. Жизнь растет, заявляют модернисты, да здравствует жизнь, да здравствует полнота ее ощущений, свежесть ее красок! да здравствует солнце! И, наряду с культом жизни, они исповедуют культ смерти. Жизнь может развиваться только в том случае, если она в должной мере «сокращена», если устраняются, отмирают ее «лишние» побеги. Таков, по мнению новейших буржуазных теоретиков, непременный «закон» ее роста. Отсюда – в социологии воскрешение, под разными видами, мальтузианских мотивов. Отсюда – в литературе пристрастие к изображениям процессов смерти и апофеоз последней.
Специалисты по части подобного литературного творчества, в частности авторы драматических опытов – Л. Андреев, Федор Сологуб, Сергеев Ценский, – не могут, следовательно, на основании их «могильного» направления, причисляться к писателям, защищающим интересы реакционных в экономическом отношении общественных групп. Наоборот их славословия в честь смерти знаменуют собой, не более и не менее, как победный гимн, написанный по поручению тех, кому, в руках капиталистического общества, принадлежит экономическое будущее. Такое значение за их славословиями остается и тогда, когда в этих славословиях начинают явно звучать патологические ноты.
Несомненно, склонность к психическим и острым нервным заболеваниям представители буржуазного «авангарда» обнаруживают не малую. Это обусловливается лихорадочным темпом развития промышленной техники, быстротой и сложностью преобразований, на которые названная техника обрекает капиталистические организмы, остротой возникающих в недрах последних классовых и внутриклассовых противоречий. Но преувеличивать роль патологических элементов нельзя. Нельзя злоупотреблять ссылками на «душевное расстройство». Существует мода у буржуазии объяснять покушения против ее собственности и ее благополучия причинами патологического характера (общеизвестны образчики подобного рода объяснительных упражнений, данных пресловутой школой криминальной антропологии). Капиталистическая организация общества оказывается настолько совершенной, что лишь безумные и вырождающиеся могут относиться с неуважением к установленным ею институтам. Точно также разрыв со старыми формами искусства, осуществленный модернизмом, в глазах ортодоксов реализма являлся настоящим помешательством. И, на первых порах, в art nouveau, в декадансе не усматривали ничего кроме плодов больного творчества. Так было в эпоху, когда диктатором промышленного мира были еще фабрики старого типа, когда новой фабрике приходилось довольствоваться ролью безвестного и безусловного parvenu. Старая фабрика утилизировала труд широких, необученных и малообученных рабочих масс, и искусство ее эпохи стояло под знаком реализма, а затем натурализма. И поклонники его, естественно, свысока отнеслись к модернистским выступлениям: искусство, отразившее материальные интересы безвестного и безусловного parvenu, должно было, в свою очередь, оцениваться, как нечто случайное, наносное, не отмеченное никакими положительными и нормальными чертами, как своего рода уродство и болезнь. Но прошло несколько времени, и отношение критики к модернизму стало изменяться. Parvnu превращается в полноправного и пользующегося большим уважением гражданина промышленного мира, более того, стремится сделаться полновластным диктатором. Соответственно этому, критика начинает в модернизме открывать положительные достоинства: она переходит на службу к новому господину. Правда, конечной цели своих честолюбивых стремлений бывший parvenu не достиг. Поэтому голоса оппонентов модернистского искусства в буржуазном лагере все еще слышны, все еще довольно громко ведется беседа о патологической подоплеке «нового художества».
Итак, осторожность и осмотрительность! Со своей стороны, мы, на примере анализа андреевских произведений, старались, насколько могли, парализовать обаяние психиатрического метода. Соблазн перенести центр тяжести критического исследования в область патологии, действительно, велик. Совпадение признаний пациентов психиатрических лечебниц и заявлений андреевских героев получается довольно точное. Но успокоиться на нем литературная критика не имеет права. Сама психиатрия возвращала нас все время к социологии. И все козыри партизанов психиатрической критики сводятся, в данном случае, к следующему. При психических заболеваниях происходит сокращение жизненных функций, о сокращении, распаде жизни повествует, в свою очередь, модернистская литература: ergo, можно особенности этой литературы объяснить из явлений психопатологiи. Но это, в сущности, значит строить свое объяснение на игре слов. «Сокращение» жизни, о котором говорят модернисты, имеет, как мы сейчас указывали, определенный социальный смысл. И как раз на почве подобного «сокращения», осуществляемого в практической жизни, становится возможным возникновение известных аномалий. А не наоборот: не из психических аномалий, quasi самопроизвольно развивающихся, рождается известный социальный феномен.
Непременной принадлежностью модернистских драм являются персонажи, официально именуемые слабоумными или сумасшедшими. Пристрастие авторов к таким героям, с точки зрения сторонников психиатрической критики, должно быть отнесено к числу черт, свидетельствующих о наличности патологической подоплеки. Между тем, это – не более, как один из литературных приемов, при помощи которых модернисты дают картину «сокращающейся» жизни.
В последнем акте драмы «К звездам» Л. Андреев заставляет Марусю произносить слова, поражающие своей неожиданностью и парадоксальностью. Потрясенная смертью Николая, андреевская героиня, в лице которой драматург пытался нарисовать тип убежденной революционерки и защитницы интересов «четвертого сословия», вдруг начинает говорить на таком языке: «… Да. Я нашла, я знаю теперь, что я буду делать. Я построю город и поселю в нем всех старых, как прелестная Эллен, всех убогих, калек, сумасшедших, слепых. Там будут глухонемые от рождения и идиоты, там будут изъеденные язвами, разбитые параличом. Там будут убийцы… Там будут предатели и лжецы и существа, подобные людям, но более ужасные, чем звери. И дома будут такие же, как жители, кривые, горбатые, слепые, изъязвленные; дома – убийцы, предатели… И у нас будут постоянные убийства, голод и плач; и царем города я поставлю Иуду и назову город «К звездам!» К звездам – через трупы, ценою вырождения!
Изумительная «формула прогресса»… но очень понятная в устах модерниста. Костюм борца за эмансипацию пролетариата, оказывается, Л. Андреев брал для своей героини на прокат. Теперь этот костюм сброшен, и героиня выступает со своим настоящим credo – которое одновременно есть credo и самого драматурга – с проповедью, указывающей на ее место в рядах иного класса. Речь идет опять о «сокращении жизни». Обитателями идеального города должны явиться люди, лишенные возможности пользоваться теми или иными органами, живущие именно пониженным жизненным самочувствием – калеки, параличные, слепые, глухонемые. В числе их фигурируют также сумасшедшие и идиоты. Ставя рядом страдающих физическими недостатками с психически ненормальными, модернистский писатель тем самым выясняет причину, почему последние столь часто избираются в качестве объектов его художественного изображения. В них он видит, прежде всего, средство демонстрировать перед зрителями и читателями процесс проповедуемого им «сокращения».
Он демонстрирует этот процесс в «Жизни Человека», выводя на сцену пьяниц, потерявших рассудок, и заставляя их разговаривать следующим образом: – «Лучше ужас, чем жизнь. Кто хочет вернуться туда? – Я – нет. – He хочу. Я лучше издохну здесь. Не хочу я жить! – Никто». Он демонстрирует этот процесс и в «Царь Голоде». Там он, как известно, отдает предпочтение люмпен-пролетариату перед пролетариатом. Посмотрим, какими штрихами обрисовывается во второй картине «голодная чернь». Собрание ее в подвале – это настоящий город «К звездам». На сцене всевозможные дегенераты и слабоумные, жалующиеся на то, что у них низкий лоб и они лишены способности думать. И. Л. Андреев выставляет их, как истинных героев «великого бунта». Такой «великий бунт» может существовать лишь в художественном воображении модернистских писателей. Рисуется выступление даже собственно не люмпен-пролетариата, а лиц, ни на какие социальные выступления неспособных. Драматург сообщает нам только о разрушительных полетах смерти. Верный своим эстетическим интересам, он старается воспользоваться благодарным для него сюжетом, – сюжетом, позволяющим ему изобразить особенно ярко картину «сокращающейся жизни».
Та же цель диктует ему заключительную сцену драмы. «Мы еще придем» – раздается зловещий шепот трупов. Представители буржуазного общества в паническом страх бегут, но… положительных оснований для их бегства не имеется. Автор, показавши полнейшее бессилие побежденных и несокрушимую мощь победителей, ни одним словом не обмолвился на счет того, откуда у его фаворитов могла явиться столь неожиданная и смелая уверенность в возможности их «второго пришествия». Но дело объясняется просто, если принять во внимание пристрастие модернистов к «могильным» мотивам. Угроза трупов опять-таки – пример художественных иллюстраций модернистской формулы» прогресса». Путь «к звездам», повторяем, для адептов «нового искусства», лежит через отрицание жизни. И достаточно усеять сцену мертвыми телами, чтобы, согласно модернистской концепции, зрители поверили, будто перед ними не что иное, как картина самой настоящей воскресающей жизни. Потому-то и только потому андреевские «трупы» столь решительно говорят о ней.
Приведенными критическими замечаниями мы и ограничимся в нашей характеристике «новой драмы». Можно было бы, конечно, остановиться на усилении роли психологического элемента, на тенденции обратить драму в диалог. Но эти нововведения, думается нам, в особых комментариях не нуждаются. Непосредственная связь их с реформой сцены устанавливается тем, что в конце предыдущей главы мы говорили о «человеке», о человеческой «личности», как о центре драматического представления.
Нам остается сказать два слова по поводу одного вопроса, который могут выдвинуть наши оппоненты. Вы пользуетесь для обоснования ваших тезисов – могут сказать они – материалом, содержащимся в рассказах Л. Андреева. Оказывается, что и рассказы, в свою очередь, повествуют о «тьме» и «смерти»; другими словами, вы предлагаете неверное объяснение: пристрастия к «тьме» «и «смерти» из факта изгнания «толпы» со сцены выводить нельзя, ибо никакой сцены Л. Андреев не имел перед глазами, когда писал свои рассказы. На это ответим следующее. Мы отнюдь не думали доказывать, что «могильные» мотивы новейшей литературы – специфический продукт театрального производства. Изгнание «массы» наблюдается не только на сцене, но всюду. Но при социально-экономической оценке современной драматургии необходимо принять во внимание и особые сценические условия. Со своей стороны, тот кто захотел бы детально выяснить происхождение «могильных» мотивов в рассказах и романах, несомненно должен был бы обследовать вопрос об организации производства, одним из факторов которого являются авторы рассказов и романов (организацию журнальных и газетных предприятий, книгоиздательств). Тема нашей статьи на подобную работу нас не уполномочивала. Но, конечно, и означенное производство исключения из общего правила не составляет. И в нем должны проявляться тенденции, характеризующие новую индустрию. Авторы рассказов и романов, в свою очередь, – дети не только социальной жизни, взятой в ее целом, но и специальных условий своей профессии. Изгнание «массы», спрос «на повышенную квалификацию имеют место и в рамках этой профессии, что, ближайшим образом, определяет кладбищенский колорит их творчества.
Модернистские писатели любят трактовать о полнейшей «свободе» художественного воображения. И презрительной кличкой звучит в их устах «раб своего инструмента». На балу у андреевского Человека присутствуют три музыканта. «Музыканты, делает ремарку драматург, очень похожи на свои инструменты. Тот, что со скрипкой, похож на скрипку… Тот, что с флейтой, похож на флейту… Тот, что с контрабасом, похож на контрабас». Модернисты питают совершенно неосновательные иллюзии на счет привилегированности своей позиции: они сами – те же андреевские музыканты. С пунктуальной точностью они, в своем художественном воображении, воспроизводят то, что велят им их «инструменты». Пользуясь терминологией Л. Андреева, мы можем сказать: плоды творчества «того, кто пишет для сцены, очень похожи… на сцену».
В. Шулятиков.
notes
Примечания
1
Robert de Souza. La Poеsie Populaire et le Lyrisme Sentimental, стр. 44.
2
Von der Absicht des Dramas dramaturgische Betrachtungen ?ber die Reform der Scene namentlich im Hinblick auf die Shakespeareb?hne in M?nchen von Jocza Savits. M?nchen. 1908; cтp. 63.
3
См. статью в журнале Cosmopolis. XXIV, 1897.
4
Von der Absicht des Dramas, стр. 217.
5
Hanns Deutsch: Qualiftizierte Arveit und Kapitalismus, стр. 92.
6
Даже более того: модернистами воскрешаются приемы и образы старого «художества» в роде «бесовских действ».
7
См.: Пьер Жане, «Неврозы и фиксированные идеи», стр. 181; Georges Dumas, «La tristesse et la joie», стр. 58–81, passim.
8
Пьер Жане, op. cit., ibid.
9
Курсив наш, как и во всех последующих цитатах.
10
G. Dumas, op. cit., стр. 80.
11
Типичный образчик подобного рода исследований – книга Dupat «Les causes sociales de la folie».