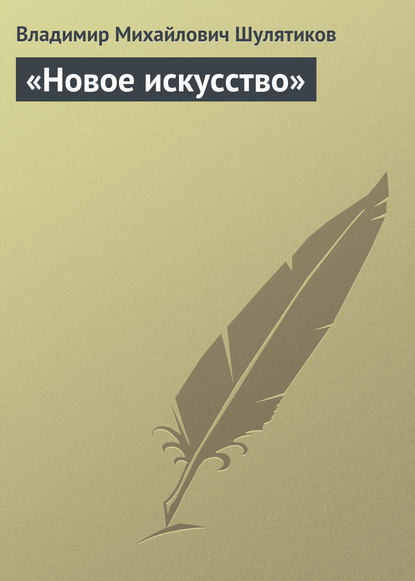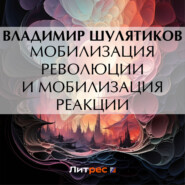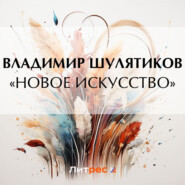По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Новое искусство»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что лютую ехидну безопасней
Прижать к груди, чем полюбить народ.
Не долго я дышал его любовью,
Он клевете врагов своих поверил
И на меня, как зверь, взбешенный лаской,
Прыгнул, рыча, и грудь мне растерзал.
И я погиб, шепча ему проклятья.
Не верь, Кай Гракх, не верь любви народной!
Оставалось сделать решительный шаг – и новые русские романтики последовали примеру Ницше, окончательно обезличившего народ, окончательно смешавшего и демократию и бюргерство в однородную, безобразную массу. До каких пределов дошло подобное «обезличение» народа, смешение его с бюргерством – об этом красноречиво свидетельствует последний ницшеанский роман г. Мережковского «Воскресшие боги».
V. Мечты о сверхчеловеке
«Избранники» восьмидесятых годов были далеко несильными людьми. Обладая высоким представлением о достоинствах личности, высоким сознанием своих человеческих прав, обладая душой, доступной самым тонким психическим, моральным и эстетическим ощущениям и движениям, они тем в большей степени должны были тяготиться грубой прозаичностью новой торгово-промышленной культуры, тем больше негодовать на «ничтожество дел людских», и в то же время сознавать себя узниками, тюрьмой которым служит «весь мир, огромный мир, раскинутый кругом». Они не считают себя героями. Презревши «будничный, мелкий удел», уйдя от «толпы», они убеждаются в своей неспособности совершать великие подвиги, «нечеловечески величественные дела». Они признаются, что они «рабы», а не «пророки», что они «дети больного поколения», что вместе с толпой они усыплены позорным сном «уныния, страха и печали». Они сами ждут пришествия великого пророка, который указал бы им путь спасения и вдохновил их на подвиги.
Пора! Явись пророк! Всей силою печали,
Всей силою любви взываю я к тебе!
Взгляни, как дряхлы мы, взгляни, как мы устали,
Как мы беспомощны в мучительной борьбе!
Теперь иль никогда!..[24 - Цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Пора! Явись пророк! Всей силою печали…» (1886).]
Но их ожидания были напрасны: их пророк не явился, и им пришлось утешиться лишь мечтами об этом пророке.
Они долго создавали образ своего пророка. Его туманный образ носился еще перед Надсоном, о нем мечтают «более поздние» романтики восьмидесятых годов, и только в наши дни, под влиянием западноевропейской литературы, этот образ окончательно оформился. В образе ницшеанского Заратустры русские интеллигенты увидели воплощение собственных дум, идеализацию собственных страданий, решение вопросов, волновавших их самих. Заратустра обладал теми моральными и психическими качествами, которые должны были обеспечить победу интеллигентам, столкнувшимся с новой культурой и не успевшим еще освоиться или примириться с этой культурой.
Что это были за психические и моральные качества?
Когда за двадцать лет перед тем столичная интеллигенция мечтала о создании сильных личностей, то признаком силы она считала прежде всего ум. Ум для разночинца-интеллигента шестидесятых годов был ценнее всего: только интенсивная умственная работа делала этого интеллигента полноправным членом общества, давала ему неоспоримые преимущества перед безвольным, не умеющим мыслить, не умеющим стоять за себя крепостником; ум для разночинца-интеллигента был синонимом его развития и торжества. Но интеллигент восьмидесятых годов не верит уже во всемогущество мысли. Ум не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагались интеллигентами шестидесятых годов. Экономическое и общественное развитие совершалось не по тем законам, которые предписывали ему интеллигенты-идеалисты. Ум не переродил общества: интеллигенты-восьмидесятники скорбят о том, что «перл творения, разумный человек» живет совершенно иррационально, что в новой общественной жизни, в этой «пошлой сцене и пестрой смене лиц нет ни мысли, ни значения, как в лихорадочном и безобразном сне…» Интеллигенты скорбят о жалкой участи «затерянного в толпе, непонятого мудреца». Если ум и ценится еще сколько-нибудь в обществе «буржуев», то только как средство, а не как цель: им пользуются, как орудием для грубо-эгоистических деяний. На самом деле «новое» общество руководствуется не чистыми побуждениями ума, а страстями и желаниями.
К таким печальным выводам пришли «восьмидесятники» и поспешили отречься от безусловного культа ума, от рационализма, завещанного им стариной, отвергнуть безусловный культ науки. Общество можно перевоспитать, только перевоспитавши его с моральной стороны, очистивши его страсти и желания. Против бури расходившихся диких страстей и желаний может устоять только тот, кто обладает цельной моральной натурой, кто облечен несокрушимой душевной силой.
Мечты о власти, которую дают мысль и наука, таким образом, заменяются мечтами о психической силе, о «могучем сердце», о «могучих чувствах». Интеллигент начинает верить в то, что стоит ему набраться в достаточной степени моральными силами, стоит стряхнуть с себя гнет позорного сна, стоит начать «жить для жизни, а не для могилы, всем биением нервов, всем огнем страстей», стоит его взорам загореться, его крыльям развернуться, его груди «закипеть трепетным порывом» – и тогда он будет «творцом» общественного и всего исторического прогресса. Других двигателей общественного прогресса он не видит, потому что, повторяем, он еще не успел заметить закономерности в развитии «нового» общества, не успел установить между собой и этим обществом положительных отношений.
«Толпа» не знает «настоящих» чувств и желаний. Толпа мешает интеллигенту жить неподдельными чувствами и желаниями. Она сделала его сердце «оскорбленным», «истомившимся», «больным». Она внесла раздвоенность в его душевный мир, в тот мир, богатством которого он так гордится, который является для него единственным светочем в окружающем его мраке. В этом мире «свивают» себе гнездо «сомненья-коршуны»; в этом мире начинают вести между собой яростный бой самые противоположные стремления: жажда покоя с жаждой борьбы, жажда жизни с жаждой смерти, рассудок с инстинктом, любовь с ненавистью, вера с безверием, эстетические эмоции с презрением к красоте, сенсуалистические наклонности с аскетическими побуждениями. Автор «Белых ночей» терзается тем, что он, рожденный для гимнов любви и красоты, рожден в «век больной и мрачный», «в сумерки веков», принужден «слышать крики вражды и мук», что «туман кровавый заволок зарю его надежд, печальных и прекрасных». Когда Надсон изображает образ истинного поэта, то изображает два образа, ничего общего между собой не имеющие: истинный поэт, с одной стороны, тот, чья «песнь кипит огнем негодованья и душу жжет своей правдивою слезой, кто ведет нас в бой» с неправдою и тьмой в суровый, грозный бой за истину и свет». С другой стороны, истинный поэт – тот, чья песнь журчит, как тихое журчанье ручья, «звенящего серебряной струей», кто уносит слушателей в мир фантазии, «где нет ни жгучих слез, ни муки, где красота, любовь, забвенье и покой». В душе Гаршина постоянно говорят «разные голоса», парит вечный разлад, тот самый разлад, который привел к трагической гибели героя его «Ночи», который воплощает в центральных фигурах его «Художников».
Этот разлад необходимо устранить: «усталые и больные» интеллигенты начинают стремиться ко всякому проявлению силы. Они обоготворяют бурю.
Пусть грохочет буря, пусть гроза бушует!
Сердце встрепенется, сердце заликует,
Гром я встречу песней, радостной, как гром,
В ураган взовьется мысль моя орлом…
Пусть стволы деревьев ураган ломает,
Пусть весь лес от молний ярко запылает.
Жизни! Жизни! Жизни! Истомилась грудь.
Раз хоть полной грудью хочется вздохнуть![25 - Н. Минский. Стихотворения, стр. 85. Прим. В. Шулятикова.]
В преклонении перед силой они не задумываются преклоняться даже перед жестокостью. Минский приветствует Везувия.
– Привет, привет тебе, губитель городов.
Чей скрытый гнев смертельный страх вселяет
В сердца людей! О, будь всегда таков!
Весь мир тебя за то лишь прославляет,
Что ты жесток, что в быстротечный миг
Людей сразить ты можешь долгим горем.
Кто б знал тебя, когда б дремал над морем
Среди других и твой безвредный пик?
А ныне – кто горы Везувия не знает?
Счастлив, чей пламень внутренний нашел
Поход наружу, лавой вытекая,
Но горе тем, в ком сила спит немая.
В ком дремлет гнев, как раненный орел.
Кто знает их? …
Восхваляя давние, минувшие века за то, что «там страсти были, – не эта мгла унынья, страха и печали» Надсон идеализирует даже темные преступления тех веков: «там даже темные дела своим величьем поражали».
Герой надсоновской поэмы «Икар», замыслив свой чудесный великий полет, не колеблется совершить преступление. В праздник он идет с луком и стрелами мимо храма. Его окликает жрец: «Куда ты в этот час, к чему ты взял свой лук? Убийство и охота преступны в день молитвы!» Но Икар не внимает словам жреца, молча выходит на морской берег и убивает морскую птицу, дабы изучить строение ее крыл…
Итак, великой душевной силой, свободно изливающейся наружу, подобно лаве вулкана, не останавливающейся ни перед какими препятствиями, должен, прежде всего, обладать идеальный «пророк», о котором грезили интеллигенты-восьмидесятники.
Интеллигенты-восьмидесятники указали и тот путь, идя по которому «пророк» должен был развить в себе силу. Из собственного жизненного опыта, из истории своего развития они убедились в благотворном значении страдания. «Мир без страданий – огромный мертвец». Страдания для них – сама жизнь. Страдания – это залог всякого успеха, всякого прогресса. Лишь страдания закаляют человека в борьбе за существование.
Над Надсоном пронеслась разрушительница «гроза», снесла с пьедестала все его кумиры, развеяла все его лучшие мечты. И начавши на развалинах из обломков создавать новый мир – строить «новый храм» Надсон благословил грозу.
<…>В тягостной грозе, прошедшей надо мною,
Я высший смысл постиг, – она мне помогла,
Очистив душу мне страданьем и борьбою,
Свет отличить от мглы и перлы от стекла.
Отсутствие страдания, напротив, является в глазах восьмидесятников символом «позорного» застоя, символом «буржуазного» довольства. В ненависти к застою они доходят до страха перед идеальным царством любви и равенства, о котором мечтают поборники за права «униженных и оскорбленных». Надсон в целом ряде стихотворений касается вопроса об этом царстве и признает его водворение на земле нежелательным.
Так, обращаясь к одному из «печальников о счастии людей», он говорит:
Но если и вправду замолкнут проклятья,
Но если и вправду погибнет Ваал
И люди друг друга обнимут, как братья,
И с неба на землю сойдет идеал, —
Скажи: в обновленном и радостном мире
Ты, свыкшийся с чистою скорбью своей,
Ты будешь ли счастлив на жизненном пире,
Мечтавший о счастье печальник людей?
Ведь сердце твое – это сердце больное,
Заглохнет без горя, как нива без гроз.
Оно не отдаст за блаженство покоя
Креста благодатных страданий и слез.
В другом стихотворении он прямо называет это идеальное царство «пиром животного, сытого чувства». По мнению Надсона, ни один честный боец не отдаст своего тернового венца за этот пир, за этот «пошлый итог», ради которого пролилось столько крови, столько было совершено «подвигов мысли, и мук, и трудов»… Одним словом, наступление этого царства знаменует для поэта полнейшее, позорнейшее отрицание прогресса…
Нет, лишь тот, кто решится «вечно бороться и страдать», кто поймет, что страдание есть непременное условие развития, кто не только не побоится страданий, но даже найдет в них жизненную прелесть, кто сумеет примирить борющиеся в его душе стремления, кто станет выше своих мук и сомнений, кто победит самого себя и таким образом разовьет в себе необычайную психическую силу, – тот будет настоящим «пророком».
Сверхчеловек Фридриха Ницше удовлетворил всем этим требованиям. Его образ рожден в той же самой обстановке, как и образ «пророка» интеллигентов-восьмидесятников: немецкий философ, подобно интеллигентам-восьмидесятникам, «задыхался» в «царстве наживы, среди буржуазной толпы», немецкий философ был такой же «утомленный», «оскорбленный» человек: его сердце также было отравлено ядом противоречий и сомнений; в его душе также не было настоящей «бури», он также жаждал неподдельных чувств и страстей, он также и по тем же причинам разочаровался в безусловном культе разума, он также верил в то, что победа в борьбе за существование при современных общественных условиях должна принадлежать людям с сильной душой, он также создал теорию стремления к силе – zur Macht[26 - К силе, власти (нем.). «Воля к власти» (Willens zur Macht) – основное понятие в философии Ницше, используемое им для обозначения принципа объяснения всего совершающегося в мире как таковом; его субстанциальной основы и фундаментальной движущей силы. Это то, с помощью чего все должно быть в конечном счете истолковано и к чему все должно быть сведено. «Воля к власти» – понятие, подвергавшееся в истории философии беспрецедентным искажениям и фальсификациям; оно и по сей день остается объектом самых различных интерпретаций.], он также думал, что душевную силу можно приобрести только при условии непременного, непрестанного развития, он также считал страдание, «великое страдание» – единственным путем к развитию, он также ради идеи о вечном прогрессе принес в жертву идею о царстве любви и равенства. Правда, он довел некоторые из своих выводов до парадоксальных крайностей; правда, ни Надсон, ни Минский, ни их современники, ни их последователи и подражатели не могли договориться до проповеди прямолинейного аристократизма, до идеализации аристократического строя, основанного на рабстве низших слоев народа, – «аристократического радикализма». Ницше не чужд лишь один г. Мережковский, но необходимо иметь в виду, что все эти крайности есть не более, как плод тяжелого недуга, владевшего душой немецкого идеалиста, и во всяком случае в образе Заратустры воплощены честные мечты одинокого, несчастного, страдающего, слабого интеллигента, не успевшего примириться к «новому обществу».
Прижать к груди, чем полюбить народ.
Не долго я дышал его любовью,
Он клевете врагов своих поверил
И на меня, как зверь, взбешенный лаской,
Прыгнул, рыча, и грудь мне растерзал.
И я погиб, шепча ему проклятья.
Не верь, Кай Гракх, не верь любви народной!
Оставалось сделать решительный шаг – и новые русские романтики последовали примеру Ницше, окончательно обезличившего народ, окончательно смешавшего и демократию и бюргерство в однородную, безобразную массу. До каких пределов дошло подобное «обезличение» народа, смешение его с бюргерством – об этом красноречиво свидетельствует последний ницшеанский роман г. Мережковского «Воскресшие боги».
V. Мечты о сверхчеловеке
«Избранники» восьмидесятых годов были далеко несильными людьми. Обладая высоким представлением о достоинствах личности, высоким сознанием своих человеческих прав, обладая душой, доступной самым тонким психическим, моральным и эстетическим ощущениям и движениям, они тем в большей степени должны были тяготиться грубой прозаичностью новой торгово-промышленной культуры, тем больше негодовать на «ничтожество дел людских», и в то же время сознавать себя узниками, тюрьмой которым служит «весь мир, огромный мир, раскинутый кругом». Они не считают себя героями. Презревши «будничный, мелкий удел», уйдя от «толпы», они убеждаются в своей неспособности совершать великие подвиги, «нечеловечески величественные дела». Они признаются, что они «рабы», а не «пророки», что они «дети больного поколения», что вместе с толпой они усыплены позорным сном «уныния, страха и печали». Они сами ждут пришествия великого пророка, который указал бы им путь спасения и вдохновил их на подвиги.
Пора! Явись пророк! Всей силою печали,
Всей силою любви взываю я к тебе!
Взгляни, как дряхлы мы, взгляни, как мы устали,
Как мы беспомощны в мучительной борьбе!
Теперь иль никогда!..[24 - Цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Пора! Явись пророк! Всей силою печали…» (1886).]
Но их ожидания были напрасны: их пророк не явился, и им пришлось утешиться лишь мечтами об этом пророке.
Они долго создавали образ своего пророка. Его туманный образ носился еще перед Надсоном, о нем мечтают «более поздние» романтики восьмидесятых годов, и только в наши дни, под влиянием западноевропейской литературы, этот образ окончательно оформился. В образе ницшеанского Заратустры русские интеллигенты увидели воплощение собственных дум, идеализацию собственных страданий, решение вопросов, волновавших их самих. Заратустра обладал теми моральными и психическими качествами, которые должны были обеспечить победу интеллигентам, столкнувшимся с новой культурой и не успевшим еще освоиться или примириться с этой культурой.
Что это были за психические и моральные качества?
Когда за двадцать лет перед тем столичная интеллигенция мечтала о создании сильных личностей, то признаком силы она считала прежде всего ум. Ум для разночинца-интеллигента шестидесятых годов был ценнее всего: только интенсивная умственная работа делала этого интеллигента полноправным членом общества, давала ему неоспоримые преимущества перед безвольным, не умеющим мыслить, не умеющим стоять за себя крепостником; ум для разночинца-интеллигента был синонимом его развития и торжества. Но интеллигент восьмидесятых годов не верит уже во всемогущество мысли. Ум не оправдал тех ожиданий, которые на него возлагались интеллигентами шестидесятых годов. Экономическое и общественное развитие совершалось не по тем законам, которые предписывали ему интеллигенты-идеалисты. Ум не переродил общества: интеллигенты-восьмидесятники скорбят о том, что «перл творения, разумный человек» живет совершенно иррационально, что в новой общественной жизни, в этой «пошлой сцене и пестрой смене лиц нет ни мысли, ни значения, как в лихорадочном и безобразном сне…» Интеллигенты скорбят о жалкой участи «затерянного в толпе, непонятого мудреца». Если ум и ценится еще сколько-нибудь в обществе «буржуев», то только как средство, а не как цель: им пользуются, как орудием для грубо-эгоистических деяний. На самом деле «новое» общество руководствуется не чистыми побуждениями ума, а страстями и желаниями.
К таким печальным выводам пришли «восьмидесятники» и поспешили отречься от безусловного культа ума, от рационализма, завещанного им стариной, отвергнуть безусловный культ науки. Общество можно перевоспитать, только перевоспитавши его с моральной стороны, очистивши его страсти и желания. Против бури расходившихся диких страстей и желаний может устоять только тот, кто обладает цельной моральной натурой, кто облечен несокрушимой душевной силой.
Мечты о власти, которую дают мысль и наука, таким образом, заменяются мечтами о психической силе, о «могучем сердце», о «могучих чувствах». Интеллигент начинает верить в то, что стоит ему набраться в достаточной степени моральными силами, стоит стряхнуть с себя гнет позорного сна, стоит начать «жить для жизни, а не для могилы, всем биением нервов, всем огнем страстей», стоит его взорам загореться, его крыльям развернуться, его груди «закипеть трепетным порывом» – и тогда он будет «творцом» общественного и всего исторического прогресса. Других двигателей общественного прогресса он не видит, потому что, повторяем, он еще не успел заметить закономерности в развитии «нового» общества, не успел установить между собой и этим обществом положительных отношений.
«Толпа» не знает «настоящих» чувств и желаний. Толпа мешает интеллигенту жить неподдельными чувствами и желаниями. Она сделала его сердце «оскорбленным», «истомившимся», «больным». Она внесла раздвоенность в его душевный мир, в тот мир, богатством которого он так гордится, который является для него единственным светочем в окружающем его мраке. В этом мире «свивают» себе гнездо «сомненья-коршуны»; в этом мире начинают вести между собой яростный бой самые противоположные стремления: жажда покоя с жаждой борьбы, жажда жизни с жаждой смерти, рассудок с инстинктом, любовь с ненавистью, вера с безверием, эстетические эмоции с презрением к красоте, сенсуалистические наклонности с аскетическими побуждениями. Автор «Белых ночей» терзается тем, что он, рожденный для гимнов любви и красоты, рожден в «век больной и мрачный», «в сумерки веков», принужден «слышать крики вражды и мук», что «туман кровавый заволок зарю его надежд, печальных и прекрасных». Когда Надсон изображает образ истинного поэта, то изображает два образа, ничего общего между собой не имеющие: истинный поэт, с одной стороны, тот, чья «песнь кипит огнем негодованья и душу жжет своей правдивою слезой, кто ведет нас в бой» с неправдою и тьмой в суровый, грозный бой за истину и свет». С другой стороны, истинный поэт – тот, чья песнь журчит, как тихое журчанье ручья, «звенящего серебряной струей», кто уносит слушателей в мир фантазии, «где нет ни жгучих слез, ни муки, где красота, любовь, забвенье и покой». В душе Гаршина постоянно говорят «разные голоса», парит вечный разлад, тот самый разлад, который привел к трагической гибели героя его «Ночи», который воплощает в центральных фигурах его «Художников».
Этот разлад необходимо устранить: «усталые и больные» интеллигенты начинают стремиться ко всякому проявлению силы. Они обоготворяют бурю.
Пусть грохочет буря, пусть гроза бушует!
Сердце встрепенется, сердце заликует,
Гром я встречу песней, радостной, как гром,
В ураган взовьется мысль моя орлом…
Пусть стволы деревьев ураган ломает,
Пусть весь лес от молний ярко запылает.
Жизни! Жизни! Жизни! Истомилась грудь.
Раз хоть полной грудью хочется вздохнуть![25 - Н. Минский. Стихотворения, стр. 85. Прим. В. Шулятикова.]
В преклонении перед силой они не задумываются преклоняться даже перед жестокостью. Минский приветствует Везувия.
– Привет, привет тебе, губитель городов.
Чей скрытый гнев смертельный страх вселяет
В сердца людей! О, будь всегда таков!
Весь мир тебя за то лишь прославляет,
Что ты жесток, что в быстротечный миг
Людей сразить ты можешь долгим горем.
Кто б знал тебя, когда б дремал над морем
Среди других и твой безвредный пик?
А ныне – кто горы Везувия не знает?
Счастлив, чей пламень внутренний нашел
Поход наружу, лавой вытекая,
Но горе тем, в ком сила спит немая.
В ком дремлет гнев, как раненный орел.
Кто знает их? …
Восхваляя давние, минувшие века за то, что «там страсти были, – не эта мгла унынья, страха и печали» Надсон идеализирует даже темные преступления тех веков: «там даже темные дела своим величьем поражали».
Герой надсоновской поэмы «Икар», замыслив свой чудесный великий полет, не колеблется совершить преступление. В праздник он идет с луком и стрелами мимо храма. Его окликает жрец: «Куда ты в этот час, к чему ты взял свой лук? Убийство и охота преступны в день молитвы!» Но Икар не внимает словам жреца, молча выходит на морской берег и убивает морскую птицу, дабы изучить строение ее крыл…
Итак, великой душевной силой, свободно изливающейся наружу, подобно лаве вулкана, не останавливающейся ни перед какими препятствиями, должен, прежде всего, обладать идеальный «пророк», о котором грезили интеллигенты-восьмидесятники.
Интеллигенты-восьмидесятники указали и тот путь, идя по которому «пророк» должен был развить в себе силу. Из собственного жизненного опыта, из истории своего развития они убедились в благотворном значении страдания. «Мир без страданий – огромный мертвец». Страдания для них – сама жизнь. Страдания – это залог всякого успеха, всякого прогресса. Лишь страдания закаляют человека в борьбе за существование.
Над Надсоном пронеслась разрушительница «гроза», снесла с пьедестала все его кумиры, развеяла все его лучшие мечты. И начавши на развалинах из обломков создавать новый мир – строить «новый храм» Надсон благословил грозу.
<…>В тягостной грозе, прошедшей надо мною,
Я высший смысл постиг, – она мне помогла,
Очистив душу мне страданьем и борьбою,
Свет отличить от мглы и перлы от стекла.
Отсутствие страдания, напротив, является в глазах восьмидесятников символом «позорного» застоя, символом «буржуазного» довольства. В ненависти к застою они доходят до страха перед идеальным царством любви и равенства, о котором мечтают поборники за права «униженных и оскорбленных». Надсон в целом ряде стихотворений касается вопроса об этом царстве и признает его водворение на земле нежелательным.
Так, обращаясь к одному из «печальников о счастии людей», он говорит:
Но если и вправду замолкнут проклятья,
Но если и вправду погибнет Ваал
И люди друг друга обнимут, как братья,
И с неба на землю сойдет идеал, —
Скажи: в обновленном и радостном мире
Ты, свыкшийся с чистою скорбью своей,
Ты будешь ли счастлив на жизненном пире,
Мечтавший о счастье печальник людей?
Ведь сердце твое – это сердце больное,
Заглохнет без горя, как нива без гроз.
Оно не отдаст за блаженство покоя
Креста благодатных страданий и слез.
В другом стихотворении он прямо называет это идеальное царство «пиром животного, сытого чувства». По мнению Надсона, ни один честный боец не отдаст своего тернового венца за этот пир, за этот «пошлый итог», ради которого пролилось столько крови, столько было совершено «подвигов мысли, и мук, и трудов»… Одним словом, наступление этого царства знаменует для поэта полнейшее, позорнейшее отрицание прогресса…
Нет, лишь тот, кто решится «вечно бороться и страдать», кто поймет, что страдание есть непременное условие развития, кто не только не побоится страданий, но даже найдет в них жизненную прелесть, кто сумеет примирить борющиеся в его душе стремления, кто станет выше своих мук и сомнений, кто победит самого себя и таким образом разовьет в себе необычайную психическую силу, – тот будет настоящим «пророком».
Сверхчеловек Фридриха Ницше удовлетворил всем этим требованиям. Его образ рожден в той же самой обстановке, как и образ «пророка» интеллигентов-восьмидесятников: немецкий философ, подобно интеллигентам-восьмидесятникам, «задыхался» в «царстве наживы, среди буржуазной толпы», немецкий философ был такой же «утомленный», «оскорбленный» человек: его сердце также было отравлено ядом противоречий и сомнений; в его душе также не было настоящей «бури», он также жаждал неподдельных чувств и страстей, он также и по тем же причинам разочаровался в безусловном культе разума, он также верил в то, что победа в борьбе за существование при современных общественных условиях должна принадлежать людям с сильной душой, он также создал теорию стремления к силе – zur Macht[26 - К силе, власти (нем.). «Воля к власти» (Willens zur Macht) – основное понятие в философии Ницше, используемое им для обозначения принципа объяснения всего совершающегося в мире как таковом; его субстанциальной основы и фундаментальной движущей силы. Это то, с помощью чего все должно быть в конечном счете истолковано и к чему все должно быть сведено. «Воля к власти» – понятие, подвергавшееся в истории философии беспрецедентным искажениям и фальсификациям; оно и по сей день остается объектом самых различных интерпретаций.], он также думал, что душевную силу можно приобрести только при условии непременного, непрестанного развития, он также считал страдание, «великое страдание» – единственным путем к развитию, он также ради идеи о вечном прогрессе принес в жертву идею о царстве любви и равенства. Правда, он довел некоторые из своих выводов до парадоксальных крайностей; правда, ни Надсон, ни Минский, ни их современники, ни их последователи и подражатели не могли договориться до проповеди прямолинейного аристократизма, до идеализации аристократического строя, основанного на рабстве низших слоев народа, – «аристократического радикализма». Ницше не чужд лишь один г. Мережковский, но необходимо иметь в виду, что все эти крайности есть не более, как плод тяжелого недуга, владевшего душой немецкого идеалиста, и во всяком случае в образе Заратустры воплощены честные мечты одинокого, несчастного, страдающего, слабого интеллигента, не успевшего примириться к «новому обществу».