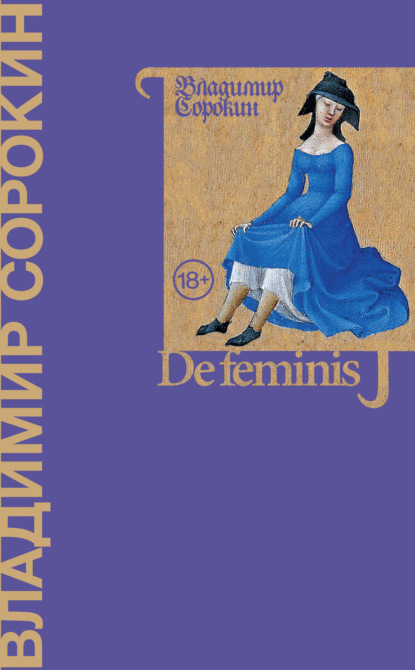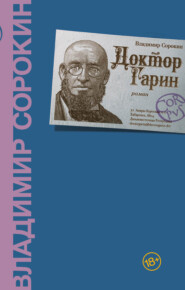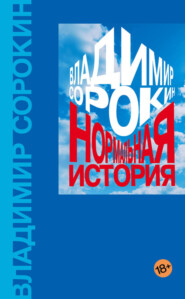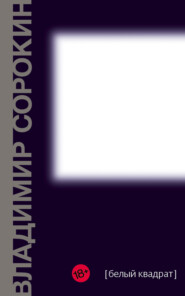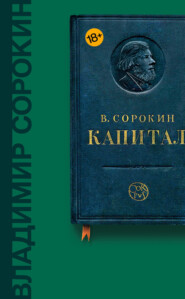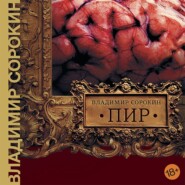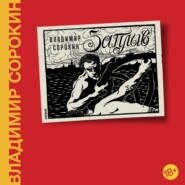По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
De feminis
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Алина ступила в малинник. Он совсем одичал, разлеперился, подзарос полынью и крапивой, местами высох. В нём было жарко, душно и пахло особенно, сладким горячим перегноем. Малина давно отошла, но на ветках остались висеть подсохшие ягоды. Их было вкусно жевать. Двинувшись по малиннику, Алина стала рвать сохлые ягоды. Ещё в этом малиннике водились змеи. Пожёвывая, глядя под ноги, она шла в душном межрядье. И вдруг услыхала стон. Он шёл из глубины малинника. Стонала женщина. Алина прошла дальше по межрядью, глянула направо и присела.
На земле в сохлой траве лежали двое. Худощавый, мускулистый, почти чёрный от загара мужчина в белой исподней майке и чёрных брюках лежал на женщине в цыганском платье. Её ноги были оголены и раскинуты, лицо повёрнуто набок, щекой прижалось к траве. В руке у мужчины был нож. Острие его упиралось в другую щёку женщины. Глаза у женщины, чёрные, смоляные, метались, хотя прижатое к земле лицо было неподвижно – оно боялось ножа. Чёрные штаны мужчины были приспущены, и виднелся худой бледный зад. И на этом заду, на каждой ягодице, было вытатуировано по глазу. Открытому глазу с ресницами. Зад настойчиво двигался, хотя сам мужчина лежал на женщине неподвижно. И глаза глядели с ягодиц. Женщина слабо стонала. Её худые руки в браслетах раскинулись бессильно. Периодически мужчина что-то рычал в лицо женщине, и ноги её начинали странно содрогаться, словно пытаясь помочь ему. Но они были такие худые, беспомощные, что ничего не могли. Алина сидела на корточках, затаив дыхание. Сухие ягоды остались у неё во рту. Зад мужчины всё двигался и двигался бесконечно, он был как бы отдельно, мужчина рычал, ноги женщины трепетали и дёргались, а зад двигался и двигался. И это длилось и длилось. Время застыло. И Алина вместе с ним. Рядом застрекотала цикада. И сразу – вторая. Они стрекотали, стрекотали так, словно помогали глазастому заду двигаться, подлаживаясь под его движение.
Алина сидела, не дыша. В глазах её всё сгустилось вокруг лежащих.
Вдруг мужчина задёргался, зарычал и грубо выругался. Глазастый зад перестал двигаться. Полежав на женщине, мужчина приподнялся. И Алина увидела его член. Он был как палка и весь красный от крови. Мужчина вытер член о платье женщины, засунул его в брюки, подтянул их, застегнулся и встал. Расставив ноги, он стоял над женщиной. Лицо его Алина не видела. Он был коротко острижен. И плечи, руки его были татуированы. Он сложил нож, убрал в карман, плюнул на женщину, пробормотал что-то, шагнул в сторону и исчез в малиннике.
Женщина осталась лежать. Облитая палящим солнцем, в ярком цыганском платье, с раскинутыми ногами, тёмным пахом, она лежала неподвижно, слабо постанывая. Потом, забормотав по-цыгански, подняла кудрявую черноволосую голову и села, опершись руками о землю. Пошарила чёрными безумными глазами по земле. И нашла большой кусок окровавленной ваты. У Алины уже второй год были месячные, она тут же поняла, что это за вата. Цыганка взяла вату, нашла трусики, болтающиеся на левой ноге, вложила в них вату, откинувшись на землю, подтянула. Оправив платье, встала на колени. Туфелька с одной её ноги валялась неподалёку. Она дотянулась, взяла, надела её на ногу и глянула по сторонам. Неподалёку лежала большая соломенная сумка с торчащими из неё отрезами текстиля. С трудом встав, цыганка упёрлась рукой в поясницу, застонала и грязно выругалась по-русски. Заметила, что платье её испачкано кровью, и бессильно завыла, запричитала, качая головой с большими серебряными серьгами. Подхватила сумку, надела на плечо. И вдруг встретилась своими быстрыми чёрными глазами с глазами Алины.
– Замри, сука! – злобно выкрикнула цыганка, зашипела, повернулась и пошла из малинника.
Алина замерла, как в известной детской игре. Сидя на корточках, она не двигалась. Над примятой, выжженной солнцем травой, где только что лежали мужчина и женщина, в душном, перегретом воздухе осталась пустота. Алина её вдруг увидела. И почувствовала. Раньше для неё это было просто слово: пустота и пустота. То есть – нет ничего, пусто. А здесь эта пустота была пустотой. Она висела над примятой травой. И висела как-то очень серьёзно и невероятно спокойно. И чем сильнее Алина всматривалась в пустоту, тем лучше ей становилось. И не просто лучше, а совсем хорошо, хорошо, просто так хорошо, как никогда не было, и так протяжно хорошо, так по-новому хорошо, словно нет ничего, вообще ничего, а есть только пустота, которой нет нигде, только здесь на поляне, над этой выгоревшей травой, эта пустота, в которую можно смотреть и смотреть бесконечно, и эта пустота говорит без слов то, чего никто Алине не сказал, и это такое важное, умное, от чего вдруг всё становится ясно, просто всё, всё, всё, и эта ясность всего – самое нужное на свете.
В глазах у Алины побелело.
И она упала без чувств на горячий, пахнущий перегноем валежник.
В нью-йоркской галерее David Bohomoletz с предсказуемым успехом прошла выставка известной американской художницы Alina Molochko, которая показала свою очередную работу из уже хорошо знакомой серии “TR”. Инсталляция под номером 36 представляла собой всё тот же сюжет, что повторялся ежегодно с различными вариациями в течение тридцати пяти лет во всех предыдущих тридцати пяти инсталляциях, экспонировавшихся в разных галереях и музеях мира: восемь великолепно изготовленных из искусственных материалов кустов малины окружали поляну, устланную пожелтевшей травой; на поляне лежала темнокожая женщина в белом бальном платье, ноги её были раздвинуты; на женщине лежал бритоголовый азиат в синей изношенной робе; брюки его были приспущены, на обнажённом заду проступала не очень аккуратная татуировка: два открытых человеческих глаза; обе фигуры были подробнейше изготовлены из пластических материалов и практически неотличимы от живых людей; азиат насиловал женщину, зад его ритмично двигался, женщина слабо стонала, красивые длинные ноги её в белых лакированных туфлях периодически подрагивали; на инсталляцию сверху неторопливо падал редкий снег.
Алина и её молодая подруга Виктория, или просто Вик, после шумного вернисажа не вернулись в отель The Ludlow, снятый для них модным галеристом, серебряноволосым и словоохотливым Дэвидом, где они уже успели провести неделю, готовя выставку, а полетели к себе в СанФранциско. Такси помчало их из аэропорта по хайвею, покачало на родных холмистых улицах и подъехало к двухэтажному деревянному дому с четырьмя старыми пальмами, выкрашенному в цвет маренго. Служанка Тян встретила путешественниц, занесла в дом оба чемодана. На крыльце Алина глянула в небо. Край большой тёмно-жёлтой луны был объеден невидимым небесным слизнем. В отличие от дождливого Нью-Йорка октябрь здесь был прекрасен, в тёплом и чистом ночном воздухе висел знакомый, дурманящий аромат бругмансий. Алина вошла в дом и не успела с наслаждением втянуть в себя запах прихожей, как высокая, большая Вик оплела сзади сильными длинными руками, поцеловала в шею нежными губами:
– Старый наш и… сладкий дом.
– Мы в нём.
Алина повернулась, ответно обняла её. Они стали целоваться. И во время долгого поцелуя Алина вдруг почувствовала, как устала за сегодняшний вечер:
– Неужели мы…
– Катапультировались…
– Из экспозиционного гноя?
– Да… да…
Вик заторможенно отстранилась, пошла в гостиную, где Тян уже всё накрыла для ночного чаепития. Вик всегда двигалась как во сне.
Алина пошла за ней. Просторная гостиная, обставленная покойной Эстер в стиле шестидесятых, всегда радовала и успокаивала. Алина глянула на чёрную деревянную статую африканского идола, чьи острые уши были увешаны бусами Эстер, и улыбнулась. Слышно было, как наверху, в спальне Тян уже распаковывает чемоданы. Вик качала головой, словно не веря возвращению. И вдруг выкрикнула глубоким сильным голосом, подняв кверху тяжёлое, красивое лицо:
– Тя-а-ан!
– Да! – ответно крикнула служанка.
– В моём чемодане зелёная банка! Принеси сюда!
– Что там? – не поняла Алина, массируя себе затылок.
– Матча от Гвинет. От милой, доброй Гвинет. Она пришла к нам. Она любит твоё искусство. Выпьем сейчас, да? И ещё еда её в пакете… Тя-а-а-ан! И пакет с суперфудс! Белый! Тоже сюда неси! В холодильник!
– Сейчас… матча… – Алина глянула на настенные часы, показывающие четверть третьего. – Поздновато? Или рановато.
– Да нет… не рановато… – С привычно тяжёлым вздохом Вик снова обняла её сзади, покачала. – Ты была такая сегодня… божественная… они все ползали вокруг тебя, как пчёлы… замёрзшие…
– И этот рой стал гудеть как-то слишком… жалко.
– Замороженно! Мороз. Вечный мороз этого города.
– Невыносимая музыка. Признаться, нью-йоркская арт-сцена стала невыносимой. Пандемия что-то сделала с людьми. И это всё неслучайно.
– Это… тяжко… мне холодно до сих пор… ты согреешь меня?
– Конечно, милая. Мороз экзистенциальный, ты права. Если это та самая новая метафизика, то её разрушительность только начинает проявляться. А что будет через год, два?
Вик обречённо покачивала красивой большой головой:
– Нет, нет, нет. Нас там точно не будет. Никогда.
И сейчас мы вовремя… вовремя…
– Там припёрся этот идиот из “Артфорума”. Он опять напишет про мой “мучительно-неизбежный опыт травматического самоцитирования”!
– Напишет… гнусно… по-ледяному…
Алина нервно зевнула.
– И кого же мне травматически цитировать? Бёрдена? Или Аккончи?
Вик качала Алину:
– Тёплая моя… хочу… хо-чу, хо-чу…
– Вик, милая, я сейчас просто рухну.
– Не дам, не дам, не-дам… ты выпьешь матча милой Гвинет… и я…
– И ты…
– И я… и ты… и мы… Тян!!
Служанка вошла в гостиную с банкой и пакетом.
– Завари нам чая из этой банки.
– Сейчас.
В айфоне Алины послышался сигнал сообщения. Вик взяла его большой белой рукой, активировала:
– Это Элисон. Тайвань. Всё! Немцы опоздали.