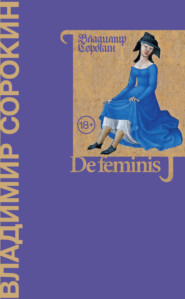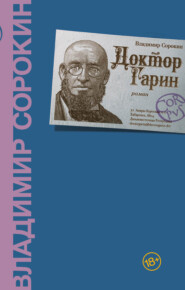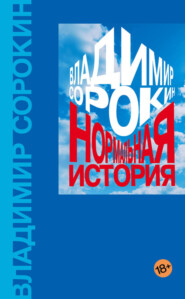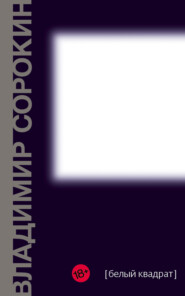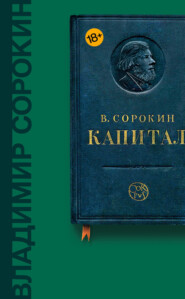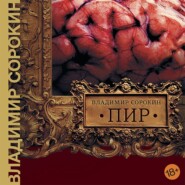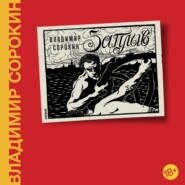По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Норма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Международные события кончились, и оба диктора, чуть улыбаясь, заговорили о новом театральном сезоне в Москве.
– Надо бы Сотсковой позвонить, – не поднимая головы, проговорила Светлана Павловна.
– Насчёт билетов?
– Ага. Сто лет в театре не были.
– Позвони.
Денисов выбрал из тарелки небольшой кусочек и сунул в рот.
На экране появилось лицо Ефремова.
Светлана Павловна улыбнулась:
– Слушай, а он на Лёвку всё-таки здорово похож.
– Скорее, Лёвка на него, – отозвался Денисов, нашаривая новый кусочек.
Новицкий засмеялся, открыл заварной чайник и помешал в нём ложечкой:
– Да нет, Саша, это разные величины. И разрабатывали они противоположные идеи.
Аккуратов подвинул ему свой стакан:
– Вот уж идеи-то совсем рядом лежат.
– Совсем не рядом. Пикассо всю жизнь утверждал кисть художника в качестве волшебной палочки. Достаточно коснуться чего угодно – холста, железа, глины, бронзы – и всё сразу приобретает статус абсолюта, а Дюшан в своих реди-мейд показал, что нас уже окружают в повседневной жизни произведения искусства. Унитаз, колесо, фотографии семейные. Всё это достойно выставки.
Новицкий налил в стакан чаю и поставил чайник на стол.
Аккуратов принял стакан, подул и отхлебнул:
– Но это же очень близко, рядом почти. Пикассо было достаточно кисти, а Дюшану – выбора. Художественного вкуса.
– Абсолютно неверно! Дюшан, выставляя унитаз, пыль или фотографии, показал, что такое искусство в целом. О каком художественном вкусе может идти речь? Наоборот, он всячески доказывал, что художественный вкус тут неуместен. Произведение искусства – это то, что может быть рассмотрено. Не важно, кем, и когда, и с какой целью изготовлен предмет. Он переводится в область эстетического и становится экспонатом. Гениальная формула. Почти за пятьдесят лет до концептуализма. А Пикассо выводил другую: всё, к чему прикоснулся художник, – произведение искусства.
– Но есть ли следы прикосновения? А? Ах, нет! В том-то и отличие Дюшана от Пикассо. Для Дюшана принцип художественной избирательности был упразднён, а для Пикассо он оставался в силе.
Новицкий распечатал пакетик с нормой и, не вынимая её, стал отковыривать чайной ложечкой и есть.
Аккуратов пил чай с баранками:
– Но всё-таки вначале был Пикассо, потом Дюшан. И влиял-то первый на второго, а не наоборот.
– Я этого не оспариваю. Пикассо на всех повлиял. Весь русский авангард – отзвук его разработок. Малевич сам признаёт это. Да и остальные тоже. Самое удивительное, что он-то себя считал вполне традиционным классиком! То есть полагал, что делает в принципе то же самое, что Леонардо и Рафаэль. Но они-то сами были творцами, жизнедателями, а не полагались только на волшебную палочку.
– Ты хочешь сказать, что за Пикассо трудился его метод?
– Несомненно. Это тот показательный случай, когда видно, насколько изобретатель ничто по сравнению со своим открытием.
– Да ну, что ты говоришь! Пикассо блестяще рисовал, поразительно чувствовал цветовое равновесие. Так о Дюшане можно сказать, а не о Пикассо. Пикассо доказал, что он гений, что он может всё. Всё. Абсолютно. Не было техники, не было направления, которого он бы не освоил. Он был и дадаистом, и фовистом, и сюрреалистом, и кубистом, наконец…
– И ни в одном из этих направлений не приблизился к уровню отцов-основателей. Ты посмотри – Брак и Пикассо. Кто работал добросовестней, чище? Брак! Матисс и Пикассо? Матисс! Ну, Пикассо-сюрреалист – вообще жалкий случай. Пикассо-скульптор – тоже! Пикассо комплексный художник, его работы надо рассматривать в целом, в целом! И картины, и скульптуры, и графику, и куклы, и изделия все свезти в один музей, специально для них устроенный, чтобы рассматривать в целом. Только тогда он потрясает. И вовсе не знанием пластики и цветового равновесия, а ме-то-дом. Метод открыт, заклинание найдено, и нет преград никаких. Сегодня кубист, завтра абстракционист…
– Но это же надо уметь.
– Не более того, что умеет хороший художник. Ты думаешь, Матисс хуже Пикассо рисовал? Лучше! Посмотри его академические работы, графику. Но он как червяк полз в одном направлении и был, в сущности, блестящим старым мастером.
– А Пикассо, значит, мастером не был?!
– Не был.
– Глупости. Был он мастером, и ещё каким!
– Пикассо сделал гораздо больше, чем рядовой мастер. Он изменил принципиально сложившийся в девятнадцатом веке эстетизм, научил художников свободе, подлинной свободе. Подобного действительно никто не сделал… это, дорогой мой, и есть подлинное, не на что не по… фу, чёрт, что это?
Новицкий пугливо отстранился от ложечки, провёл рукой по губам и, открыв рот, вытянул из него длинный волос с приставшими крошками нормы.
Аккуратов допил чай, смахнул капли с бороды, усмехнулся:
– Сюрприз.
– Ниточка Ариадны. Длинный, чёрт…
Двумя пальцами Новицкий снял с волоса крошки, отправил в рот. Потом скатал волос в чёрный комочек и кинул прочь.
Комочек неслышно упал на пол.
– А может, тогда ко мне на хазу? – Васька достал горсть мелочи, стал искать двушку.
– А что, у меня хуёвей, что ль? – улыбнулся Милок. – Такая же двухкомнатная.
– Ну, у тебя сосед…
– Да какие соседи, ты что? Это ты с Гришкой путаешь. У меня отдельная давно.
– Аааа… Что-то я… действительно… во, две двушки… звони… или, может, мне?
– Давай я. Я ж её лучше знаю.
– Вон автомат освободился.
Подошли к крайнему автомату, из которого выбежал худощавый парень.
– Чо, не работает, пацан? – окликнул его Милок.
– Работает.