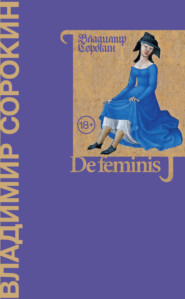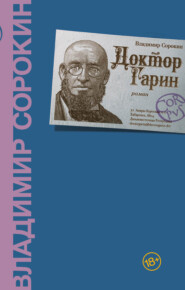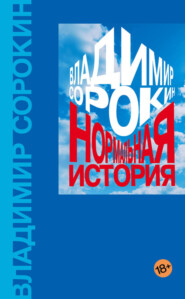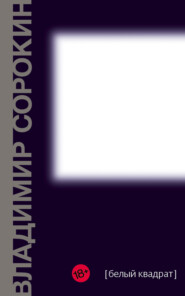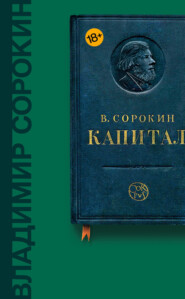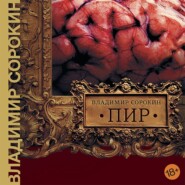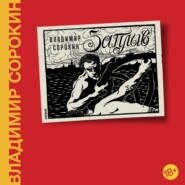По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
День опричника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– На колени, сиволапые!
В такие мгновенья все сразу видно. Ой, как видно хорошо человека русского! Лица, лица оторопевшей челяди. Простые русские лица. Люблю я смотреть на них в такие мгновенья, в момент истины. Сейчас они – зеркало. В котором отражаемся мы. И солнышко зимнее.
Слава Богу, не замутнилось зеркало сие, не потемнело от времени.
Падает челядь на колени.
Наши расслабились, зашевелились. И сразу – звонок Бати: следит из своего терема в Москве:
– Молодцом!
– Служим России, Батя! Что с домом?
– На слом.
На слом? Вот это внове… Обычно усадьбу давленую берегли для своих. И прежняя челядь оставалась под новым хозяином. Как у меня. Переглядываемся. Батя белозубо усмехается:
– Чего задумались? Приказ: чистое место.
– Сделаем, Батя!
Ага. Чистое место. Это значит – красный петух. Давненько такого не было. Но – приказ есть приказ. Его не обсуждают. Командую челяди:
– Каждый по мешку барахла может взять! Две минуты даем!
Те уже поняли, что дом пропал. Подхватились, побежали, рассыпались по своим закутам, хватать нажитое да заодно – что под руку подвернется. А наши на дом поглядывают: решетки, двери кованые, стены красного кирпича. Основательность во всем. Хорошая кладка, ровная. Шторы на окнах задернуты, да неплотно: поглядывают в щели быстрые глаза. Тепло домашнее там, за решетками, прощальное тепло, затаившееся, трепещущее смертельным трепетом. Ох, и сладко проникать в сей уют, сладко выковыривать оттудова тот трепет прощальный!
Челядь набрала по мешку барахла. Бредут покорно, как калики перехожие. Пропускаем их к воротам. А там, у пролома, стрельцы с лучестрелами дежурят. Покидает челядь усадьбу, оглядывается. Оглянитесь, сиволапые, нам не жалко. Теперь – наш час. Обступаем дом, стучим дубинами по решеткам, по стенам:
– Гойда!
– Гойда!
– Гойда!
Потом обходим его трижды по солнцевороту:
– Горе дому сему!
– Горе дому сему!
– Горе дому сему!
Прилепляет Поярок шутиху к двери кованой. Отходим, уши рукавицами прикрываем. Рванула шутиха – и нет двери. Но за первой дверью – другая, деревянная. Достает Сиволай резак лучевой. Взвизгнуло пламя синее, яростное, уперлось в дверь тонкой спицею – и рухнула прорезь в двери.
Входим внутрь. Спокойно входим. Теперь уже спешка ни к чему.
Тихо внутри, покойно. Хороший дом у столбового, уютный. В гостиной все на китайский манер – лежанки, ковры, столики низкие, вазы в человечий рост, свитки, драконы на шелке и из нефрита зеленого. Пузыри новостные тоже китайские, гнутые, черным деревом отороченные. Восточными ароматами пованивает. Мода, ничего не поделаешь. Поднимаемся наверх по лестнице широкой, ковром китайским устланной. Здесь родные запахи – маслом лампадным тянет, деревом кондовым, книгами старыми, валерьяной. Хоромы справные, рубленые, конопаченные. С рушниками, киотами, сундуками, комодами, самоварами да печами изразцовыми. Разбредаемся по комнатам. Никого. Неужели сбежал, гнида? Ходим, под кровати дубины суем, ворошим белье, шкапы платяные сокрушаем. Нет нигде хозяина.
– Не в трубу же он улетел? – бормочет Посоха.
– Никак ход тайный в доме имеется, – шарит Крепло дубиной в комоде.
– Забор обложен стрельцами, куда он денется?! – возражаю я им.
Подымаемся в мансарду. Здесь – зимний сад, каменья, стенка водяная, тренажеры, обсерватория. Теперь у всех обсерватории… Вот чего я понять никак не могу: астрономия с астрологией, конечно, науки великие, но при чем здесь телескоп? Это же не книга гадальная! Спрос на телескопы в Белокаменной просто умопомрачительный, в голове не укладывающийся. Даже Батя себе в усадьбе телескоп поставил. Правда, смотреть ему в него некогда.
Посоха словно мысли мои читает:
– Спотворились столбовые да менялы на звезды пялиться. Чего они там разглядеть хотят? Смерть свою?
– Может, Бога? – усмехается Хруль, стукая дубиной по пальме.
– Не богохульствуй! – одергивает его голос Бати.
– Прости, Батя, – крестится Хруль, – бес попутал…
– Что вы по старинке ищете, анохи! – не унимается Батя. – Включайте “ищейку”!
Включаем “ищейку”. Пищит, на первый этаж показывает. Спускаемся. “Ищейка” подводит нас к двум китайским вазам. Большие вазы, напольные, выше меня. Переглядываемся. Подмигиваем друг другу. Киваю я Хрулю да Сиволаю. Размахиваются они и – дубинами по вазам! Разлетается фарфор тонкий, словно скорлупа яиц огромадных, драконьих. А из яиц тех, словно Касторы да Поллуксы, – дети столбового! Рассыпались по ковру горохом – и в рев. Трое, четверо… шестеро. Все белобрысые, погодки, один одного меньше.
– Вот оно что! – хохочет Батя невидимый. – Ишь чего удумал, вор!
– Совсем от страха спятил! – щерится Сиволай на детей.
Нехорошо он щерится. Ну да мы детишек не трогаем… Нет, ежели приказ придавить потрох – тогда конечно. А так – нам лишней кровушки не надобно.
Ловят наши детишек визжащих, как куропаток, уносят под мышками. Там, снаружи, уж из приюта сиротского подкатил хромой целовальник Аверьян Трофимыч на своем автобусе желтом. Пристроит он малышню, не даст пропасть, вырастит честными гражданами великой страны.
На крики детские, как на блесну, жены столбовых ловятся: не выдержала супружница Куницына, завыла в укрывище своем. Сердце бабье – не камень. Идем на крик – на кухню путь ведет. Неспешно входим. Осматриваемся. Хороша кухня у Ивана Ивановича. Просторна и по уму обустроена. Тут тебе и столы разделочные, и плиты, и полки стальные да стеклянные с посудой да приправами, и печи замысловатые с лучами горячими да холодными, и хай-тек заморский, и вытяжки заковыристые, и холодильники прозрачные да с подсветкою, и ножи на всякий лад, а посередке – печь русская, широкая, белая. Молодец Иван Иванович. Какая трапеза православная без щей да каши из печи русской? Разве в духовке заморской пироги спекутся, как в печи нашей? Разве молоко так стомится? А хлеб-батюшка? Русский хлеб в русской печи печь надобно – это вам последний нищий скажет.
Зев печной заслонкой медной прикрыт. Стучит Поярок в заслонку пальцем согнутым:
– Серый волк пришел, пирожков принес. Тук-тук, кто в печке прячется?
А из-за заслонки – вой бабий да ругань мужская. Серчает Иван Иванович на жену, что выдала криком. Понятное дело, а то как же. Чувствительны бабы сердцем, за то их и любим.
Снимает Поярок заслонку, берут наши ухваты печные, кочергу да ими из печи на свет Божий и вытягивают столбового с супругою. Обоя в саже поизмазались, упираются. Столбовому сразу руки вяжем, в рот – кляп. И под локти – на двор. А жену… с женой по-веселому обойтись придется. Положено так. Притягивают ее веревками к столу разделочному, мясному. Хороша жена у Ивана Ивановича: стройна телом, лепа лицом, сисяста, жопаста, порывиста. Но сперва – столбовой. Все валим из дому на двор. Там уж ждут-стоят Зябель и Крепло с метлами, а Нагул с веревкой намыленной. Волокут опричники столбового за ноги от крыльца до ворот в последний путь. Зябель с Креплом за ним метлами след заметают, чтоб следов супротивника делу Государеву в России не осталось. На ворота уж Нагул влез, ловко веревку пристраивает, не впервой врагов России вешать. Встаем все под ворота, поднимаем столбового на руках своих:
– Слово и дело!
Миг – и закачался Иван Иванович в петле, задергался, захрипел, засопел, запердел прощальным пропердом. Снимаем шапки, крестимся. Надеваем. Ждем, покуда из столбового дух изыдет.
Треть дела сделано. Теперь – жена. Возвращаемся в дом.
– Не до смерти! – как всегда, предупреждает голос Бати.
– Ясное дело, Батя!
В такие мгновенья все сразу видно. Ой, как видно хорошо человека русского! Лица, лица оторопевшей челяди. Простые русские лица. Люблю я смотреть на них в такие мгновенья, в момент истины. Сейчас они – зеркало. В котором отражаемся мы. И солнышко зимнее.
Слава Богу, не замутнилось зеркало сие, не потемнело от времени.
Падает челядь на колени.
Наши расслабились, зашевелились. И сразу – звонок Бати: следит из своего терема в Москве:
– Молодцом!
– Служим России, Батя! Что с домом?
– На слом.
На слом? Вот это внове… Обычно усадьбу давленую берегли для своих. И прежняя челядь оставалась под новым хозяином. Как у меня. Переглядываемся. Батя белозубо усмехается:
– Чего задумались? Приказ: чистое место.
– Сделаем, Батя!
Ага. Чистое место. Это значит – красный петух. Давненько такого не было. Но – приказ есть приказ. Его не обсуждают. Командую челяди:
– Каждый по мешку барахла может взять! Две минуты даем!
Те уже поняли, что дом пропал. Подхватились, побежали, рассыпались по своим закутам, хватать нажитое да заодно – что под руку подвернется. А наши на дом поглядывают: решетки, двери кованые, стены красного кирпича. Основательность во всем. Хорошая кладка, ровная. Шторы на окнах задернуты, да неплотно: поглядывают в щели быстрые глаза. Тепло домашнее там, за решетками, прощальное тепло, затаившееся, трепещущее смертельным трепетом. Ох, и сладко проникать в сей уют, сладко выковыривать оттудова тот трепет прощальный!
Челядь набрала по мешку барахла. Бредут покорно, как калики перехожие. Пропускаем их к воротам. А там, у пролома, стрельцы с лучестрелами дежурят. Покидает челядь усадьбу, оглядывается. Оглянитесь, сиволапые, нам не жалко. Теперь – наш час. Обступаем дом, стучим дубинами по решеткам, по стенам:
– Гойда!
– Гойда!
– Гойда!
Потом обходим его трижды по солнцевороту:
– Горе дому сему!
– Горе дому сему!
– Горе дому сему!
Прилепляет Поярок шутиху к двери кованой. Отходим, уши рукавицами прикрываем. Рванула шутиха – и нет двери. Но за первой дверью – другая, деревянная. Достает Сиволай резак лучевой. Взвизгнуло пламя синее, яростное, уперлось в дверь тонкой спицею – и рухнула прорезь в двери.
Входим внутрь. Спокойно входим. Теперь уже спешка ни к чему.
Тихо внутри, покойно. Хороший дом у столбового, уютный. В гостиной все на китайский манер – лежанки, ковры, столики низкие, вазы в человечий рост, свитки, драконы на шелке и из нефрита зеленого. Пузыри новостные тоже китайские, гнутые, черным деревом отороченные. Восточными ароматами пованивает. Мода, ничего не поделаешь. Поднимаемся наверх по лестнице широкой, ковром китайским устланной. Здесь родные запахи – маслом лампадным тянет, деревом кондовым, книгами старыми, валерьяной. Хоромы справные, рубленые, конопаченные. С рушниками, киотами, сундуками, комодами, самоварами да печами изразцовыми. Разбредаемся по комнатам. Никого. Неужели сбежал, гнида? Ходим, под кровати дубины суем, ворошим белье, шкапы платяные сокрушаем. Нет нигде хозяина.
– Не в трубу же он улетел? – бормочет Посоха.
– Никак ход тайный в доме имеется, – шарит Крепло дубиной в комоде.
– Забор обложен стрельцами, куда он денется?! – возражаю я им.
Подымаемся в мансарду. Здесь – зимний сад, каменья, стенка водяная, тренажеры, обсерватория. Теперь у всех обсерватории… Вот чего я понять никак не могу: астрономия с астрологией, конечно, науки великие, но при чем здесь телескоп? Это же не книга гадальная! Спрос на телескопы в Белокаменной просто умопомрачительный, в голове не укладывающийся. Даже Батя себе в усадьбе телескоп поставил. Правда, смотреть ему в него некогда.
Посоха словно мысли мои читает:
– Спотворились столбовые да менялы на звезды пялиться. Чего они там разглядеть хотят? Смерть свою?
– Может, Бога? – усмехается Хруль, стукая дубиной по пальме.
– Не богохульствуй! – одергивает его голос Бати.
– Прости, Батя, – крестится Хруль, – бес попутал…
– Что вы по старинке ищете, анохи! – не унимается Батя. – Включайте “ищейку”!
Включаем “ищейку”. Пищит, на первый этаж показывает. Спускаемся. “Ищейка” подводит нас к двум китайским вазам. Большие вазы, напольные, выше меня. Переглядываемся. Подмигиваем друг другу. Киваю я Хрулю да Сиволаю. Размахиваются они и – дубинами по вазам! Разлетается фарфор тонкий, словно скорлупа яиц огромадных, драконьих. А из яиц тех, словно Касторы да Поллуксы, – дети столбового! Рассыпались по ковру горохом – и в рев. Трое, четверо… шестеро. Все белобрысые, погодки, один одного меньше.
– Вот оно что! – хохочет Батя невидимый. – Ишь чего удумал, вор!
– Совсем от страха спятил! – щерится Сиволай на детей.
Нехорошо он щерится. Ну да мы детишек не трогаем… Нет, ежели приказ придавить потрох – тогда конечно. А так – нам лишней кровушки не надобно.
Ловят наши детишек визжащих, как куропаток, уносят под мышками. Там, снаружи, уж из приюта сиротского подкатил хромой целовальник Аверьян Трофимыч на своем автобусе желтом. Пристроит он малышню, не даст пропасть, вырастит честными гражданами великой страны.
На крики детские, как на блесну, жены столбовых ловятся: не выдержала супружница Куницына, завыла в укрывище своем. Сердце бабье – не камень. Идем на крик – на кухню путь ведет. Неспешно входим. Осматриваемся. Хороша кухня у Ивана Ивановича. Просторна и по уму обустроена. Тут тебе и столы разделочные, и плиты, и полки стальные да стеклянные с посудой да приправами, и печи замысловатые с лучами горячими да холодными, и хай-тек заморский, и вытяжки заковыристые, и холодильники прозрачные да с подсветкою, и ножи на всякий лад, а посередке – печь русская, широкая, белая. Молодец Иван Иванович. Какая трапеза православная без щей да каши из печи русской? Разве в духовке заморской пироги спекутся, как в печи нашей? Разве молоко так стомится? А хлеб-батюшка? Русский хлеб в русской печи печь надобно – это вам последний нищий скажет.
Зев печной заслонкой медной прикрыт. Стучит Поярок в заслонку пальцем согнутым:
– Серый волк пришел, пирожков принес. Тук-тук, кто в печке прячется?
А из-за заслонки – вой бабий да ругань мужская. Серчает Иван Иванович на жену, что выдала криком. Понятное дело, а то как же. Чувствительны бабы сердцем, за то их и любим.
Снимает Поярок заслонку, берут наши ухваты печные, кочергу да ими из печи на свет Божий и вытягивают столбового с супругою. Обоя в саже поизмазались, упираются. Столбовому сразу руки вяжем, в рот – кляп. И под локти – на двор. А жену… с женой по-веселому обойтись придется. Положено так. Притягивают ее веревками к столу разделочному, мясному. Хороша жена у Ивана Ивановича: стройна телом, лепа лицом, сисяста, жопаста, порывиста. Но сперва – столбовой. Все валим из дому на двор. Там уж ждут-стоят Зябель и Крепло с метлами, а Нагул с веревкой намыленной. Волокут опричники столбового за ноги от крыльца до ворот в последний путь. Зябель с Креплом за ним метлами след заметают, чтоб следов супротивника делу Государеву в России не осталось. На ворота уж Нагул влез, ловко веревку пристраивает, не впервой врагов России вешать. Встаем все под ворота, поднимаем столбового на руках своих:
– Слово и дело!
Миг – и закачался Иван Иванович в петле, задергался, захрипел, засопел, запердел прощальным пропердом. Снимаем шапки, крестимся. Надеваем. Ждем, покуда из столбового дух изыдет.
Треть дела сделано. Теперь – жена. Возвращаемся в дом.
– Не до смерти! – как всегда, предупреждает голос Бати.
– Ясное дело, Батя!