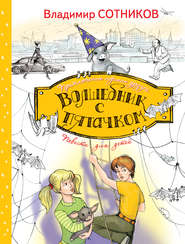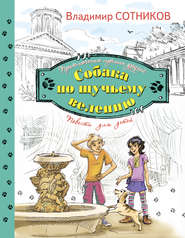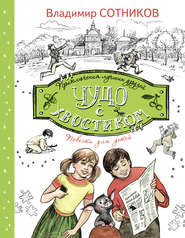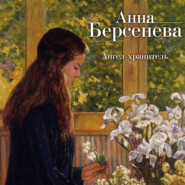По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Холочье. Чернобыльская сага
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Этот дом был связан садом с другим, старым домом, в котором жила старуха Горелиха, похожая на огромного ворона. Она приехала в Холочье много лет назад со своим сыном, как будто принесла его откуда-то, посадила здесь жить и смотрела на него, как птица. Я не слышал никогда ни звука ее голоса, не видел ни одного ее движения. Она сидела возле своего дома и смотрела через сад на дом сына.
Он похож был на мать своим пристальным взглядом, с разницей лишь в том, что смотрел куда-то вдаль. Работал объездчиком – следил, чтобы никто нигде не нарвал колхозной травы. Ни один из деревенских детей не избежал этой участи – убегать от Горелика в сумерках по полю. Помню, что я с нетерпением ждал этого испытания, но оно все выбирало других, не меня. И вот наконец, отбросив корзину, в которую нарвал травы для кроликов, я уже несся по мокрой траве, как по скользкому снегу, слыша сзади топот и крики Горелика. Никогда в жизни не получилось у меня повторить то ощущение росистой травы, в каких бы полях я ни пытался это делать. В одну росу дважды не входят.
Жена Горелика была молчаливой, всегда в плотно повязанном платке, из-за него и казалось, что ей трудно говорить сквозь сжатые губы.
Мой отец раньше учил их детей в школе, поэтому всегда останавливался возле Горелика и разговаривал с ним. Я помню, как отец после этого ловко поворачивал возле его дома, разгоняясь, в прыжке через никогда не просыхающую лужу, держась за вбитый в землю железный столб, отполированный тысячами таких же прикосновений. Почему-то я думал при этом, что он показывает мне, как все можно сделать легко и просто. И что такой поворот – самый обычный. Я повторял за ним полет над лужей. Конечно, ничего подобного отец не думал, просто поворачивал в этом пугающем меня месте, как делали все. Это я так думал за него.
Но все в этой истории меркнет перед тем, что я до сих пор не могу назвать. Оно таилось в трех братьях, как в трехголовом драконе.
Старший Петька всегда гоготал, рассказывая о своих похождениях. Серьезным я его не видел. Никто не мог повторить за ним фокус взятия в рот биллиардного шара. В клубе было два биллиарда, американский и русский, он выбирал белый шар русского, брал его в рот и потом выталкивал языком. Однажды он задержал шар во рту чуть дольше, челюсть онемела, и выплюнуть его он не мог. Так бы и задохнулся, если бы не оказалась рядом Светка. В тот вечер у нее разболелся зуб, и она по дороге к стоянке дальнобойщиков зашла в клуб в надежде выпить с кем-нибудь. Не растерявшись, будто занималась этим всю жизнь, она сильно стукнула Петьку одной рукой по затылку, другой по подбородку, выбив шар.
Средний Фима любил ходить по шоссе ночами. Он шел навстречу машинам, не сворачивая. Машины едва успевали тормозить. Несколько раз его сбивали, и лоб его был покрыт сеткой шрамов.
Младший Коля всегда молчал, и все побаивались его взгляда. Никто не знал, что у него на уме.
В праздники с утра все уже было известно наперед. Братья выжидали, кто первый даст повод, и начиналась драка. Потом в жизни я видел всякие драки, животные, человеческие, спортивные, но эта драка братьев Гореликов вспоминается мне как самая страшная. Там не было ни мгновения для того, чтобы опомниться кому-то из них. Если бы так дрались на войне, то побеждали бы любого врага, но они дрались между собой, каждый за себя. Какое-то страшное, бессмысленное, неостановимое действие. Вся деревня пыталась их разнять, они вырывались, убегали, появлялись с неожиданной стороны, и опять, как пожар под сильным ветром на сухой траве, разгоралась эта схватка, не допускающая чужого вмешательства. Кто пытался их остановить, отлетал в сторону. Было непонятно, как они не убивают друг друга, ведь дрались не только кулаками, но и кольями, впечатывали друг в друга камни, прыгали на распростертое тело обеими ногами. Драка перекатывалась по всей деревне, вспыхивала то в одном месте, то в другом. Кого-то из них запирали, но они были неудержимы, разбирали стены сарая и появлялись с другой стороны, как будто прилетев откуда-то. И все начиналось сначала, уже в вечерних сумерках, уже с фонарями, кого-то из них отливали водой, он приходил в себя, вырывал из забора кол и гнался за своими братьями. Как, не понимаю я сейчас, как все-таки они оставались живы? Любой удар каждого из них мог быть смертельным. Но они были равны по силе и ненависти.
Черной, не только от приближения ночи, черной и жуткой была эта сторона жизни, я чувствовал, что она не может продолжаться, должна закончиться, и в этом ожидании конца была ее окраска, ее смысл. Я, не понимая этого, ждал окончания чуждой жизни.
И только потом, через годы, прочитав «Будденброков», понял, что затухание такой жизни начинается задолго до полного исчезновения.
Так что же я пишу сейчас в угоду литературной привычке, требующей переносить свои чувства на окружающий мир? Все было проще, и этот дом на углу двух улиц пугал меня чужим страхом. Я долго искал этот страх в себе, пока не понял, что он снаружи, в тех трех братьях, предтечах конца.
11
Сейчас я знаю, что весь смысл моей жизни заключается в нескончаемом разговоре с невидимым собеседником, которого я впервые представил в детстве как странное пятно, сотканное из тумана и дыма от нашего костра, когда мы сидели вечером на берегу речки. Кто это? Иногда я думаю, что это моя душа – в детстве она жила где хотела, во всем пространстве, окружавшем меня, это потом я увез ее с собой.
Коля Стэсев был сыном конюха и пригонял вечерами коней в ночное прямо на наш луг, между улицей и речкой. Мы весь день ждали этого – заранее натаскивали хворост для костра, заранее приготавливали, чтобы потом не тратить время, сапоги и старые телогрейки, запихивали в карманы еду – хлеб, соль, лук, вареные яйца и сало, и с первыми звездами на уже густом синем небе, с первыми расслышанными в земле звуками лошадиного топота бежали каждый от своего дома к речке. Кто-то разжигал костер, остальные помогали Коле связывать передние ноги лошадей путами, которые висели кольцами на их шеях. Странно было, что эти веревки, казавшиеся признаком свободы после надоевшей дневной упряжи, становились как раз препятствием для движения. Кони поначалу злились, прыгая спутанными передними ногами, но потом привыкали и успокаивались. С сочным хрустом жевалась трава, гулко звучали удары лошадиных ног в земле, отовсюду слышалось всхрапывание – мы усаживались у костра, окруженные этими звуками, в которых едва различимо было журчание речной воды и потрескивание горящих веток.
Нет ничего вкуснее жареного на огне сала, насаженного ломтиками на прут, вместе с вареными яйцами, луком и хлебом. Мы ели, как будто спешили, как будто боялись, что скоро закончится этот вечер и надо будет возвращаться по домам. И разговаривали, перебивая друг друга, хотя Коля устанавливал очередность, кому говорить. Сам он рассказывал смешные истории про коней, кто кого лягнул или укусил, про слепней, которым можно замазать глаза дегтем, и они улетят вверх до самого солнца, пугал нас рассказами о местных колдуньях, которые только притворились, что умерли, а на самом деле подслушивают сейчас наш разговор. Когда он уходил посмотреть, не далеко ли разбрелись кони, или поставить небольшую сеть под берегом, чтобы утром забрать из нее попавшуюся рыбу, мы умолкали. Однажды в купальскую ночь Коля повел нас в лес – мы перешли речку по небольшому мостику, вместе вошли в темный мрак деревьев. Возвращаясь, Коля объяснил, что надо ходить поодиночке, только так можно увидеть цветок папоротника, но на это никто не решился.
Иногда к нам приходил его старший брат Васька со своей самодельной балалайкой и напевал насмешливые частушки про каждого – «ехал Витька на козе, десять лет ему узе». Нам это не очень нравилось, все молчали при Ваське, и он уходил, наверное, в клуб, к таким же взрослым.
Если молчание затягивалось, Коля по считалке «вышел летчик из тумана, вынул ножик из кармана…» назначал того, кому надо говорить. Даже сейчас, когда у меня случаются тоскливые минуты молчания, я закрываю глаза и переношусь туда, на берег, как будто вышедший из тумана летчик должен неотвратимо указать мне: пора, пора говорить.
В один из вечеров – я помню его как собранный из всех остальных, как спрессованный, – я все время молчал. Ничего в этом не было страшного, я был самый маленький, и мне, конечно, можно было оставаться только слушателем, но я помню, что хотел что-то рассказать, хотел, а слов не было. Не было истории, не было случая, о котором я мог бы рассказать, только желание. Странное ощущение! Как будто хочешь пить рядом с речкой, до краев наполненной водой, а нельзя, невозможно, и не знаешь почему.
Я поднялся и пошел к лошадям. Молодая кобыла Бамбула потянулась ко мне мордой, губами взяла посоленный хлеб, вздохнула доверительно. И я что-то стал ей шептать – о родителях, которые разрешают мне сюда ходить, какие они хорошие за это, как я ждал этого вечера и что дома, засыпая, буду не только там, под одеялом, но и здесь под звездами.
Громкий смех Васьки раздался рядом. Он уже спешил к костру, на ходу смеясь: «С конем говорит! Людей ему мало!» И возле костра все засмеялись, как ожидаемой шутке, подхватили это «с конями говорит!». От обиды я почувствовал, что не хочу быть человеком, а жеребенком или еще кем-нибудь.
Я пошел большим полукругом по лугу и увидел, как дым от костра сливается с туманом, растекаясь слоистым облаком – «вышел летчик из тумана…» – и вдруг почувствовал, что там, внутри этого облака есть то, о чем я думаю. Во мне так же не было слов, но я посылал туда свои невыразимые мысли и слышал ответ.
Молчания нет.
12
Коля был самым всемогущим человеком в моей жизни. Простите меня те, чьи книги я читал, простите, любимые герои, простите, любившие и воспитавшие меня, простите все, у кого я чему-нибудь научился, но всему вашему сонму придется потесниться, потому что Коля требует много места. И в моих словах – я не умею летать лишь потому, что он не научил меня этому, – правда уступает место, как это иногда бывает, истине.
Досадно чувствовать невозможность рассказать о Коле не словами, а теми неожиданными смыслами, которые возникают, как в этой фразе про мое неумение летать. У меня ощущение, что в Колю нельзя попасть словами, как делал это он, высоко подбрасывая снежок и вторым таким же, мгновенно слепленным, сбивая его на лету. Я все-таки надеюсь, что мое восхищение этим человеком вознесется ввысь и растает там, а слова упадут вниз, и откроется пространство, в котором он своим появлением, как всегда, включит напряжение, словно перекинет вверх ручку невидимого рубильника.
Коля умел все. Нет, не так. Коля умел все, что хотел. Он словно исправлял жизнь, убирая ее главную преграду – неуверенность. Не учился ездить, сидя задом наперед на велосипеде, а просто садился так и уже ехал; не преодолевал страх, а просто неожиданно вспрыгивал на огромного быка, пасущегося на лугу, устраивая перед нами родео, и соскакивал, поняв, что нам жалко изнемогшего быка; не на спор, а просто так нырял с перил моста в не такую уж глубокую речку с пятиметровой высоты головой вниз, исхитрившись не воткнуться в дно, а скользнуть в воде дугой, мгновенно вынырнув; залезал в лесу на высокую сосну и прыгал с нее на тонкую березу, заставляя ее своим весом плавно опустить его, как на парашюте, на землю. Повторять его трюки нам он не разрешал. Однажды вечером у костра Васька, его старший брат, сыпанул в огонь целую горсть винтовочных патронов, найденных в лесных окопах. Мы в страхе, вслед за хохочущим Васькой, расползлись по сторонам, один Коля, хмыкнув, невозмутимо остался сидеть у огня. Патроны, взрываясь, разбросали костер, с Коли слетела кепка – в ней застрял осколок гильзы.
Перед Колей пятились строптивые кони, умолкали злые собаки, отводя глаза. Потом, чуть повзрослев, он перенес свою силу и в умение драться. Нам он говорил, что надо не драться, а прекращать драку. Иногда по вечерам к нам приходили подраться парни из соседних деревень – странные деревенские обычаи! Коля выступал из нашей толпы, как Пересвет, выбирал из противников главного и завершал все споры и долгое стояние одним ударом. Как пружина он бросался вперед и бил точно и сильно сбоку в подбородок. И все заканчивалось – бесчувственное тело уносили его друзья. Попробуйте слегка ударить костяшками кулака сбоку по своему подбородку – все пошатнется перед вами, и вы поймете, что Коля был прав в своем умении.
Спустя несколько лет я оказался свидетелем сцены: Коля был с девушкой, задержался в магазине, а девушке крикнул что-то оскорбительное водитель остановившегося грузовика. Она заплакала. Коля, выйдя, потребовал извиниться. Шофер замахнулся и ударил, но Коля отклонился. И ударил в ответ. Тот упал и лежал до приезда «Cкорой помощи» без сознания.
Сейчас я вдруг подумал: а почему же Коля не останавливал драки Гореликов? Странная была жизнь, допускавшая непересекающиеся линии.
Я ловлю себя на том, что не хочу вспоминать Колю повзрослевшего. Может быть, виной тому одно неприятное событие. Я был уже классе в девятом, дружил с Аней, но никак не осмеливался даже поцеловаться с ней. Мы гуляли вечерами по улице, и однажды рядом с нами притормозила машина с кузовом-будкой, за рулем был Коля. Он тогда работал в колхозе водителем на машине техпомощи. Открыл нам будку, предложил покатать. Мы почему-то залезли. Ну и покатал же он! Летали по проселочным дорогам, и в кромешной темноте будки надо было крепко вцепиться в какие-то ручки и скобы, чтобы не превратиться в тряпичных кукол. Где-то в полях мы остановились, Коля ушел. Вернувшись через полчаса, подмигнул мне: ну как? Я ничего не понял и подумал, Коля что-то напутал. Что-то не так решил. Мы поехали обратно. И только потом ко мне пришло понимание, что мы с ним совсем разные – как все люди.
Поэтому мне так хочется вернуться в детство, когда мы еще почти не отличались друг от друга. Если у меня что-то не получалось, например, я колол дрова и не попадал несколько раз подряд топором в середину чурки, – представлял, что под Колиным ударом она бы разлетелась, как игрушечная.
Он выстругал тугой лук из кленового сука, и стрелы, выпущенные им вверх из этого лука, с наконечниками из выплавленных винтовочных пуль, летели так высоко, что терялись из виду. Однажды в новогодний вечер мы привязывали к этим стрелам бенгальские огни, зажигали их и запускали в темное небо. И вдруг очередная стрела с недогоревшим бенгальским огнем, возвращаясь, воткнулась в соломенную крышу дома Гейчихи. Закурился дымок, вот-вот загорелась бы и вся крыша. Мы стояли внизу, оцепенело глядя вверх. Коля в несколько мгновений по углу дома, по выступающим окончаниям сруба взметнулся наверх, прополз по крыше к стреле, выдернул ее, раскопал, как кошка, и сбросил вниз загоревшуюся уже солому. И долго еще сидел наверху, глядя в соломенную воронку, убеждаясь, что там уже нет ни одной искорки. Потом весело попросил: «Ой-ой-ой, снимите меня отсюда!» – и съехал, как с горки, приземлившись в снег, словно для того и залезал на эту крышу. До сих пор любой новогодний салют заставляет меня вспомнить тот вечер. Потом Коля придумал способ лазания по вертикальным поверхностям: держась за жердь, которой его упирали в стену, он перебирал ногами все выше и выше. Это я видел намного позднее в голливудских фильмах, но в то время Коля уж точно придумал все сам.
Странно, странно – за всеми этими подробностями и мелочами, которые мне особенно и не нужны, потому что не в них дело, плывет, как будто я там стою и смотрю вокруг, тот самый пейзаж по кругу, панорамный снимок, как называется это сейчас, и пахнет тот самый воздух с дымом, и слышен тот самый хрипловатый даже не голос – голос мне так и не удается вспомнить, – а тембр его голоса, и все это вместе соединяется в настоящее – и по времени, и по качеству – существование того мира, главным в котором был Коля. Казалось бы, самое интересное сейчас именно подробности, но нет, я их и так знаю. Самое интересное для меня – странное ощущение, что мир тот и сейчас существует и породил все остальные мои миры.
Единственное, чего я не понимал в Коле – его нежелания ходить в школу. Пропуская занятия, он ждал нас, словно показывая, что мы впустую потеряли время. Ну что ж, – говорил он своим видом, – продолжим.
Мой отец учил его в младших классах, а потом, уже в средних, стал его своеобразным покровителем – просил ходить в школу, защищал на педсоветах и в учительских спорах. Он словно брал на себя Колину школьную вину. Не сразу я понял, почему отец так уважает его. Не за то же, за что уважали мы! Но однажды отец сказал мне, что у него были на фронте такие друзья. Все они погибли.
Коля мог вдруг сказать: «Надо посмотреть, откуда речка начинается», – и это было неотвратимым решением отправляться в неожиданный поход, не с утра, а во второй половине дня и не очень подготовленными. Разве можно считать походной экипировкой сапоги и куртку, и спички с хлебом-салом? Конечно, то, что казалось близким, становилось далеким – до истока речки мы так и не дошли. Пройдя по берегу Прудовки против ее неторопливого течения всякими лугами и болотцами, кустарниками и перелесками несчитаные километры, мы повернули обратно, поняв, что до ночи уже не успеем вернуться. Шли и шли, уже в темноте, могли бы, конечно, остановиться и разжечь костер, но Коля упорно вел нас обратно, почуяв свою вину и стараясь хоть как-то ее преуменьшить, сократив время поисков нас родителями. Моего отца мы встретили километра за два от деревни, он шел навстречу по берегу речки. Как он узнал, куда мы пошли? Чем-то все-таки они были похожи, он и Коля, думаю я сейчас. Ведь те, погибшие, иначе не дружили бы с отцом. Он молча сверкнул на нас глазами и пошел рядом, уже в обратную сторону. О, это его молчание! Слушали мы только звуки природы. То коростель заскрипит, то рыба плеснет. И речка едва угадывалась в темноте под извилистой полосой тумана – вдаль по лугу. Почему я улыбаюсь, вспоминая это?
Микита и Мотька, так звали его родителей. Дети называли их на «вы». Знаете, сколько было у них детей? Петька, Борис, Славик, Ленька, Верка, Катя, Васька и он, Коля, младший. Петька моряк, Борис поэт и художник, Славик вор-рецидивист, Ленька строитель, Верка воспитательница, Катя продавщица, Васька никто, так и не стал никем, потому что сразу два раза подряд отсидел в тюрьме, и Коля… Кем мог стать Коля Стэсев, этот сверхчеловек, сила которого не вмещается ни в одну из профессий?
Согласитесь, странные слова я только что написал об этой семье. Просто список. Или заметки на полях. Nota bene. Почему не хочется исправить? Не знаю. И стереть нельзя.
Я помню, как Коля, вдруг встрепенувшись, будто отряхиваясь от обычной жизни, объявлял, что сегодня вечером – кино. Четыре танкиста и собака. В семь ноль-ноль. Вход по билетам. Билеты будут выдаваться – не продаваться, а выдаваться – вон через ту дыру в заборе. И нарисованные билеты выдавались, и мы усаживались на полу, на табуретках, на кроватях в единственной комнате их дома вперемежку с Микитой, Мотькой, соседями и смотрели телевизор, первый на нашей улице. Я видел его лицо при этом – наверное, ему казалось, что он все это устроил. Конечно, все пришли бы и так, но он сделал из этого интересный спектакль. И поглядывал на зрителей, как режиссер из-за кулис, проверяя реакцию. Значит, организатор, значит, лидер, – думаю я. Нет, никакой не лидер, не организатор. Он просто хотел, чтобы каждая минута жизни была интереснее, чем намечалась. Я представляю, как Коля выслушивает какого-нибудь психолога, описывающего тип его характера, ухмыляется и выпрыгивает в окно, как, кстати, он сделал в школе, когда его в воспитательных целях выбрали старостой класса. Он сказал: «Не хочу», – а когда ему стали объяснять, что ничего не поделаешь, весь класс его выбрал, он встал, подошел к окну, открыл его – второй этаж – и выпрыгнул из школы. Как потом – из жизни.
Я вспоминаю «он в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклес», вспоминаю Печорина, всех лишних людей, героев, не совпадающих со своим временем. Коля отнюдь не из их числа, даже не начинайте смеяться над моими сравнениями. Наоборот, он часть жизни – в виде его человеческого живого тела соткалась бесконечная окружающая материя. И когда она закончилась, когда деревня исчезла, перестала существовать после чернобыльской катастрофы… Знаете, как он умер? Как Ван Гог. Только не выстрелил в себя из револьвера, а где-то на новом месте, куда переехал и где не захотел жить, лег на кровать и вонзил нож себе в живот. И долго так лежал, ожидая, когда все кончится.
Самое необъяснимое для меня во всей этой истории – его слова, сказанные мне, не помню когда и где, у костра ли, в лесу, в походе или где-то еще: «Когда-нибудь ты об этом расскажешь».
13
Наводя окуляр своей памяти (странный прибор, который я не в силах ни с чем сравнить) на жителей Холочья, я боюсь забыть и навсегда потерять многое из того, что видел тогда, и чувствую при этом, что мой страх связан не только с людьми. Это страх потери виденной когда-то жизни именно в ее картинах и в предметах, эти картины наполнявших. Я так и не научился отмахиваться от него, так и не привык к своему, казалось бы, естественному бессилию помнить все до мельчайших подробностей. Разве можно помнить все? – успокаиваю я себя. На помощь мне приходит мое же собственное открытие, моя мысль о том, что жизнь и не требует таких усилий памяти, не требует такого умения, слов и даже такого желания – она и без этого записывается, пишет себя сама, существует без меня. Нетрудно оказалось понять это, как будто подумал не я, а сама природа, непонятная мне огромная мыслительная субстанция, частью которой являюсь и я.
Но мне мало этого огромного объяснения и оправдания, я хочу быть сильным сам по себе, остаться со своей маленькой силой, как первобытный художник, делающий на стене пещеры простые рисунки.
Как рискую я быть непонятым не только в том, что сейчас написал, но и в том, что напишу вослед. Смейся надо мной, читатель, закрывай книгу в досаде на странные и непонятные слова, но я скажу их, потому что они подтверждают мое сравнение с первобытным художником. Я выбираю из своих воспоминаний о предметном мире, в котором жил, обычную тропинку – точнее, ее часть, ее фрагмент, – как рисунок на стене пещеры.
Тропинка пересекала неглубокую канаву перед шоссе не перпендикулярно, а под углом, наклоняя свою поверхность, как лента Мебиуса, на спуске влево, а на подъеме вправо. Сначала я ожидал этого места, а миновав, вспоминал, решив, что любая дорога должна быть такой – с выбранным из всей ее протяженности отрезком, которому придаешь особенное значение, местом, к которому сначала стремишься, а потом от него отдаляешься. И смысла в нем не меньше, чем в цели, к которой направляешься.
Даже сейчас, вспоминая, я отказываюсь от радости разогнаться на велосипеде и нырнуть в эту ложбину, чтобы потом взлететь на насыпь. Нет, мне больше нравилось идти пешком, удивляясь с каждым шагом ощущению собственной тяжести, вспыхивавшему в этом месте с такой силой, будто земля, вдруг опомнившись, доказывала мне мое существование. На велосипеде нельзя остановиться, а пешком остановиться можно, я всегда это делал внизу, на дне, где лента тропинки начинала переворачиваться, где я и чувствовал свою тяжесть. Вот я шел, и в движении меня почти не было, вот я остановился и появился, вот смотрю себе под ноги на невидимое земное притяжение и становлюсь бесконечным. И даже теперь иногда мне кажется, что думать и чувствовать я научился на этом самом месте, не раньше и не позже, а когда впервые понял, что я – не только я, а часть всего. Что все пронесшееся во мне становится уже не только моим, но и растворенным в этой тропинке, как дождь. Помню, как я думал об этом, и свидетель тому мое недовольство, что никак не удавалось сравнить себя с каплями дождя, наверное, не хватало внешнего сходства.
Скоро осень, скоро школа, я буду каждый день проходить по этой тропинке, видеть под ногами эти гладкие и втоптанные в плотную землю камешки – дробящие мои чувства или собирающие их воедино? Маленький кирпичный осколок напомнил о печнике, который, смеясь, дал мне понюхать в пригоршне глинистый раствор, пахнущий, по его утверждению, яичницей, и когда я приблизил нос, ткнул в него раствором, заполнив ноздри – в этом и состояла его шутка. Наверное, когда-то в его детстве так подшутили и над ним, но я уж точно не стану продолжать эту традицию, она забудется. Останется только печка.
В который раз я не решаюсь вытащить из тропинки другой, овальный камень, чем-то похожий на меня самого. Я представлял его еще по дороге через поле, решив, что он должен лежать у меня в кармане, чтобы всегда и везде была со мной эта весомая частица мира. Мне хочется такого соединения, но не могу нарушить здесь ничего, сразу представляя, что буду потом укладывать камень на место, смеясь над собой из-за этого странного занятия, как будто кто-то опять надо мной подшутил. Я сам. Разве это мысли? – думаю я. Разве это чувства? Разве сливается эта тропинка с жизнью, ее окружающей? А я, словно отвечая, вглядываюсь в неповторимую этим летом, после весенних и дождевых ручьев, мозаику впечатанных камней, сравниваю их с людьми, знакомыми и неизвестными, оживляя их застывшую жизнь. Засохшие листья и травинки переносятся ветром, и в этом соединении движения и покоя появляется доказательство того, что я, глядя на это, перенес сюда свои чувства, которых здесь не было без меня. Я переносил их тогда даже на расстоянии, находясь дома или в другом месте дороги, это же делаю и сейчас, из другого времени.
Он похож был на мать своим пристальным взглядом, с разницей лишь в том, что смотрел куда-то вдаль. Работал объездчиком – следил, чтобы никто нигде не нарвал колхозной травы. Ни один из деревенских детей не избежал этой участи – убегать от Горелика в сумерках по полю. Помню, что я с нетерпением ждал этого испытания, но оно все выбирало других, не меня. И вот наконец, отбросив корзину, в которую нарвал травы для кроликов, я уже несся по мокрой траве, как по скользкому снегу, слыша сзади топот и крики Горелика. Никогда в жизни не получилось у меня повторить то ощущение росистой травы, в каких бы полях я ни пытался это делать. В одну росу дважды не входят.
Жена Горелика была молчаливой, всегда в плотно повязанном платке, из-за него и казалось, что ей трудно говорить сквозь сжатые губы.
Мой отец раньше учил их детей в школе, поэтому всегда останавливался возле Горелика и разговаривал с ним. Я помню, как отец после этого ловко поворачивал возле его дома, разгоняясь, в прыжке через никогда не просыхающую лужу, держась за вбитый в землю железный столб, отполированный тысячами таких же прикосновений. Почему-то я думал при этом, что он показывает мне, как все можно сделать легко и просто. И что такой поворот – самый обычный. Я повторял за ним полет над лужей. Конечно, ничего подобного отец не думал, просто поворачивал в этом пугающем меня месте, как делали все. Это я так думал за него.
Но все в этой истории меркнет перед тем, что я до сих пор не могу назвать. Оно таилось в трех братьях, как в трехголовом драконе.
Старший Петька всегда гоготал, рассказывая о своих похождениях. Серьезным я его не видел. Никто не мог повторить за ним фокус взятия в рот биллиардного шара. В клубе было два биллиарда, американский и русский, он выбирал белый шар русского, брал его в рот и потом выталкивал языком. Однажды он задержал шар во рту чуть дольше, челюсть онемела, и выплюнуть его он не мог. Так бы и задохнулся, если бы не оказалась рядом Светка. В тот вечер у нее разболелся зуб, и она по дороге к стоянке дальнобойщиков зашла в клуб в надежде выпить с кем-нибудь. Не растерявшись, будто занималась этим всю жизнь, она сильно стукнула Петьку одной рукой по затылку, другой по подбородку, выбив шар.
Средний Фима любил ходить по шоссе ночами. Он шел навстречу машинам, не сворачивая. Машины едва успевали тормозить. Несколько раз его сбивали, и лоб его был покрыт сеткой шрамов.
Младший Коля всегда молчал, и все побаивались его взгляда. Никто не знал, что у него на уме.
В праздники с утра все уже было известно наперед. Братья выжидали, кто первый даст повод, и начиналась драка. Потом в жизни я видел всякие драки, животные, человеческие, спортивные, но эта драка братьев Гореликов вспоминается мне как самая страшная. Там не было ни мгновения для того, чтобы опомниться кому-то из них. Если бы так дрались на войне, то побеждали бы любого врага, но они дрались между собой, каждый за себя. Какое-то страшное, бессмысленное, неостановимое действие. Вся деревня пыталась их разнять, они вырывались, убегали, появлялись с неожиданной стороны, и опять, как пожар под сильным ветром на сухой траве, разгоралась эта схватка, не допускающая чужого вмешательства. Кто пытался их остановить, отлетал в сторону. Было непонятно, как они не убивают друг друга, ведь дрались не только кулаками, но и кольями, впечатывали друг в друга камни, прыгали на распростертое тело обеими ногами. Драка перекатывалась по всей деревне, вспыхивала то в одном месте, то в другом. Кого-то из них запирали, но они были неудержимы, разбирали стены сарая и появлялись с другой стороны, как будто прилетев откуда-то. И все начиналось сначала, уже в вечерних сумерках, уже с фонарями, кого-то из них отливали водой, он приходил в себя, вырывал из забора кол и гнался за своими братьями. Как, не понимаю я сейчас, как все-таки они оставались живы? Любой удар каждого из них мог быть смертельным. Но они были равны по силе и ненависти.
Черной, не только от приближения ночи, черной и жуткой была эта сторона жизни, я чувствовал, что она не может продолжаться, должна закончиться, и в этом ожидании конца была ее окраска, ее смысл. Я, не понимая этого, ждал окончания чуждой жизни.
И только потом, через годы, прочитав «Будденброков», понял, что затухание такой жизни начинается задолго до полного исчезновения.
Так что же я пишу сейчас в угоду литературной привычке, требующей переносить свои чувства на окружающий мир? Все было проще, и этот дом на углу двух улиц пугал меня чужим страхом. Я долго искал этот страх в себе, пока не понял, что он снаружи, в тех трех братьях, предтечах конца.
11
Сейчас я знаю, что весь смысл моей жизни заключается в нескончаемом разговоре с невидимым собеседником, которого я впервые представил в детстве как странное пятно, сотканное из тумана и дыма от нашего костра, когда мы сидели вечером на берегу речки. Кто это? Иногда я думаю, что это моя душа – в детстве она жила где хотела, во всем пространстве, окружавшем меня, это потом я увез ее с собой.
Коля Стэсев был сыном конюха и пригонял вечерами коней в ночное прямо на наш луг, между улицей и речкой. Мы весь день ждали этого – заранее натаскивали хворост для костра, заранее приготавливали, чтобы потом не тратить время, сапоги и старые телогрейки, запихивали в карманы еду – хлеб, соль, лук, вареные яйца и сало, и с первыми звездами на уже густом синем небе, с первыми расслышанными в земле звуками лошадиного топота бежали каждый от своего дома к речке. Кто-то разжигал костер, остальные помогали Коле связывать передние ноги лошадей путами, которые висели кольцами на их шеях. Странно было, что эти веревки, казавшиеся признаком свободы после надоевшей дневной упряжи, становились как раз препятствием для движения. Кони поначалу злились, прыгая спутанными передними ногами, но потом привыкали и успокаивались. С сочным хрустом жевалась трава, гулко звучали удары лошадиных ног в земле, отовсюду слышалось всхрапывание – мы усаживались у костра, окруженные этими звуками, в которых едва различимо было журчание речной воды и потрескивание горящих веток.
Нет ничего вкуснее жареного на огне сала, насаженного ломтиками на прут, вместе с вареными яйцами, луком и хлебом. Мы ели, как будто спешили, как будто боялись, что скоро закончится этот вечер и надо будет возвращаться по домам. И разговаривали, перебивая друг друга, хотя Коля устанавливал очередность, кому говорить. Сам он рассказывал смешные истории про коней, кто кого лягнул или укусил, про слепней, которым можно замазать глаза дегтем, и они улетят вверх до самого солнца, пугал нас рассказами о местных колдуньях, которые только притворились, что умерли, а на самом деле подслушивают сейчас наш разговор. Когда он уходил посмотреть, не далеко ли разбрелись кони, или поставить небольшую сеть под берегом, чтобы утром забрать из нее попавшуюся рыбу, мы умолкали. Однажды в купальскую ночь Коля повел нас в лес – мы перешли речку по небольшому мостику, вместе вошли в темный мрак деревьев. Возвращаясь, Коля объяснил, что надо ходить поодиночке, только так можно увидеть цветок папоротника, но на это никто не решился.
Иногда к нам приходил его старший брат Васька со своей самодельной балалайкой и напевал насмешливые частушки про каждого – «ехал Витька на козе, десять лет ему узе». Нам это не очень нравилось, все молчали при Ваське, и он уходил, наверное, в клуб, к таким же взрослым.
Если молчание затягивалось, Коля по считалке «вышел летчик из тумана, вынул ножик из кармана…» назначал того, кому надо говорить. Даже сейчас, когда у меня случаются тоскливые минуты молчания, я закрываю глаза и переношусь туда, на берег, как будто вышедший из тумана летчик должен неотвратимо указать мне: пора, пора говорить.
В один из вечеров – я помню его как собранный из всех остальных, как спрессованный, – я все время молчал. Ничего в этом не было страшного, я был самый маленький, и мне, конечно, можно было оставаться только слушателем, но я помню, что хотел что-то рассказать, хотел, а слов не было. Не было истории, не было случая, о котором я мог бы рассказать, только желание. Странное ощущение! Как будто хочешь пить рядом с речкой, до краев наполненной водой, а нельзя, невозможно, и не знаешь почему.
Я поднялся и пошел к лошадям. Молодая кобыла Бамбула потянулась ко мне мордой, губами взяла посоленный хлеб, вздохнула доверительно. И я что-то стал ей шептать – о родителях, которые разрешают мне сюда ходить, какие они хорошие за это, как я ждал этого вечера и что дома, засыпая, буду не только там, под одеялом, но и здесь под звездами.
Громкий смех Васьки раздался рядом. Он уже спешил к костру, на ходу смеясь: «С конем говорит! Людей ему мало!» И возле костра все засмеялись, как ожидаемой шутке, подхватили это «с конями говорит!». От обиды я почувствовал, что не хочу быть человеком, а жеребенком или еще кем-нибудь.
Я пошел большим полукругом по лугу и увидел, как дым от костра сливается с туманом, растекаясь слоистым облаком – «вышел летчик из тумана…» – и вдруг почувствовал, что там, внутри этого облака есть то, о чем я думаю. Во мне так же не было слов, но я посылал туда свои невыразимые мысли и слышал ответ.
Молчания нет.
12
Коля был самым всемогущим человеком в моей жизни. Простите меня те, чьи книги я читал, простите, любимые герои, простите, любившие и воспитавшие меня, простите все, у кого я чему-нибудь научился, но всему вашему сонму придется потесниться, потому что Коля требует много места. И в моих словах – я не умею летать лишь потому, что он не научил меня этому, – правда уступает место, как это иногда бывает, истине.
Досадно чувствовать невозможность рассказать о Коле не словами, а теми неожиданными смыслами, которые возникают, как в этой фразе про мое неумение летать. У меня ощущение, что в Колю нельзя попасть словами, как делал это он, высоко подбрасывая снежок и вторым таким же, мгновенно слепленным, сбивая его на лету. Я все-таки надеюсь, что мое восхищение этим человеком вознесется ввысь и растает там, а слова упадут вниз, и откроется пространство, в котором он своим появлением, как всегда, включит напряжение, словно перекинет вверх ручку невидимого рубильника.
Коля умел все. Нет, не так. Коля умел все, что хотел. Он словно исправлял жизнь, убирая ее главную преграду – неуверенность. Не учился ездить, сидя задом наперед на велосипеде, а просто садился так и уже ехал; не преодолевал страх, а просто неожиданно вспрыгивал на огромного быка, пасущегося на лугу, устраивая перед нами родео, и соскакивал, поняв, что нам жалко изнемогшего быка; не на спор, а просто так нырял с перил моста в не такую уж глубокую речку с пятиметровой высоты головой вниз, исхитрившись не воткнуться в дно, а скользнуть в воде дугой, мгновенно вынырнув; залезал в лесу на высокую сосну и прыгал с нее на тонкую березу, заставляя ее своим весом плавно опустить его, как на парашюте, на землю. Повторять его трюки нам он не разрешал. Однажды вечером у костра Васька, его старший брат, сыпанул в огонь целую горсть винтовочных патронов, найденных в лесных окопах. Мы в страхе, вслед за хохочущим Васькой, расползлись по сторонам, один Коля, хмыкнув, невозмутимо остался сидеть у огня. Патроны, взрываясь, разбросали костер, с Коли слетела кепка – в ней застрял осколок гильзы.
Перед Колей пятились строптивые кони, умолкали злые собаки, отводя глаза. Потом, чуть повзрослев, он перенес свою силу и в умение драться. Нам он говорил, что надо не драться, а прекращать драку. Иногда по вечерам к нам приходили подраться парни из соседних деревень – странные деревенские обычаи! Коля выступал из нашей толпы, как Пересвет, выбирал из противников главного и завершал все споры и долгое стояние одним ударом. Как пружина он бросался вперед и бил точно и сильно сбоку в подбородок. И все заканчивалось – бесчувственное тело уносили его друзья. Попробуйте слегка ударить костяшками кулака сбоку по своему подбородку – все пошатнется перед вами, и вы поймете, что Коля был прав в своем умении.
Спустя несколько лет я оказался свидетелем сцены: Коля был с девушкой, задержался в магазине, а девушке крикнул что-то оскорбительное водитель остановившегося грузовика. Она заплакала. Коля, выйдя, потребовал извиниться. Шофер замахнулся и ударил, но Коля отклонился. И ударил в ответ. Тот упал и лежал до приезда «Cкорой помощи» без сознания.
Сейчас я вдруг подумал: а почему же Коля не останавливал драки Гореликов? Странная была жизнь, допускавшая непересекающиеся линии.
Я ловлю себя на том, что не хочу вспоминать Колю повзрослевшего. Может быть, виной тому одно неприятное событие. Я был уже классе в девятом, дружил с Аней, но никак не осмеливался даже поцеловаться с ней. Мы гуляли вечерами по улице, и однажды рядом с нами притормозила машина с кузовом-будкой, за рулем был Коля. Он тогда работал в колхозе водителем на машине техпомощи. Открыл нам будку, предложил покатать. Мы почему-то залезли. Ну и покатал же он! Летали по проселочным дорогам, и в кромешной темноте будки надо было крепко вцепиться в какие-то ручки и скобы, чтобы не превратиться в тряпичных кукол. Где-то в полях мы остановились, Коля ушел. Вернувшись через полчаса, подмигнул мне: ну как? Я ничего не понял и подумал, Коля что-то напутал. Что-то не так решил. Мы поехали обратно. И только потом ко мне пришло понимание, что мы с ним совсем разные – как все люди.
Поэтому мне так хочется вернуться в детство, когда мы еще почти не отличались друг от друга. Если у меня что-то не получалось, например, я колол дрова и не попадал несколько раз подряд топором в середину чурки, – представлял, что под Колиным ударом она бы разлетелась, как игрушечная.
Он выстругал тугой лук из кленового сука, и стрелы, выпущенные им вверх из этого лука, с наконечниками из выплавленных винтовочных пуль, летели так высоко, что терялись из виду. Однажды в новогодний вечер мы привязывали к этим стрелам бенгальские огни, зажигали их и запускали в темное небо. И вдруг очередная стрела с недогоревшим бенгальским огнем, возвращаясь, воткнулась в соломенную крышу дома Гейчихи. Закурился дымок, вот-вот загорелась бы и вся крыша. Мы стояли внизу, оцепенело глядя вверх. Коля в несколько мгновений по углу дома, по выступающим окончаниям сруба взметнулся наверх, прополз по крыше к стреле, выдернул ее, раскопал, как кошка, и сбросил вниз загоревшуюся уже солому. И долго еще сидел наверху, глядя в соломенную воронку, убеждаясь, что там уже нет ни одной искорки. Потом весело попросил: «Ой-ой-ой, снимите меня отсюда!» – и съехал, как с горки, приземлившись в снег, словно для того и залезал на эту крышу. До сих пор любой новогодний салют заставляет меня вспомнить тот вечер. Потом Коля придумал способ лазания по вертикальным поверхностям: держась за жердь, которой его упирали в стену, он перебирал ногами все выше и выше. Это я видел намного позднее в голливудских фильмах, но в то время Коля уж точно придумал все сам.
Странно, странно – за всеми этими подробностями и мелочами, которые мне особенно и не нужны, потому что не в них дело, плывет, как будто я там стою и смотрю вокруг, тот самый пейзаж по кругу, панорамный снимок, как называется это сейчас, и пахнет тот самый воздух с дымом, и слышен тот самый хрипловатый даже не голос – голос мне так и не удается вспомнить, – а тембр его голоса, и все это вместе соединяется в настоящее – и по времени, и по качеству – существование того мира, главным в котором был Коля. Казалось бы, самое интересное сейчас именно подробности, но нет, я их и так знаю. Самое интересное для меня – странное ощущение, что мир тот и сейчас существует и породил все остальные мои миры.
Единственное, чего я не понимал в Коле – его нежелания ходить в школу. Пропуская занятия, он ждал нас, словно показывая, что мы впустую потеряли время. Ну что ж, – говорил он своим видом, – продолжим.
Мой отец учил его в младших классах, а потом, уже в средних, стал его своеобразным покровителем – просил ходить в школу, защищал на педсоветах и в учительских спорах. Он словно брал на себя Колину школьную вину. Не сразу я понял, почему отец так уважает его. Не за то же, за что уважали мы! Но однажды отец сказал мне, что у него были на фронте такие друзья. Все они погибли.
Коля мог вдруг сказать: «Надо посмотреть, откуда речка начинается», – и это было неотвратимым решением отправляться в неожиданный поход, не с утра, а во второй половине дня и не очень подготовленными. Разве можно считать походной экипировкой сапоги и куртку, и спички с хлебом-салом? Конечно, то, что казалось близким, становилось далеким – до истока речки мы так и не дошли. Пройдя по берегу Прудовки против ее неторопливого течения всякими лугами и болотцами, кустарниками и перелесками несчитаные километры, мы повернули обратно, поняв, что до ночи уже не успеем вернуться. Шли и шли, уже в темноте, могли бы, конечно, остановиться и разжечь костер, но Коля упорно вел нас обратно, почуяв свою вину и стараясь хоть как-то ее преуменьшить, сократив время поисков нас родителями. Моего отца мы встретили километра за два от деревни, он шел навстречу по берегу речки. Как он узнал, куда мы пошли? Чем-то все-таки они были похожи, он и Коля, думаю я сейчас. Ведь те, погибшие, иначе не дружили бы с отцом. Он молча сверкнул на нас глазами и пошел рядом, уже в обратную сторону. О, это его молчание! Слушали мы только звуки природы. То коростель заскрипит, то рыба плеснет. И речка едва угадывалась в темноте под извилистой полосой тумана – вдаль по лугу. Почему я улыбаюсь, вспоминая это?
Микита и Мотька, так звали его родителей. Дети называли их на «вы». Знаете, сколько было у них детей? Петька, Борис, Славик, Ленька, Верка, Катя, Васька и он, Коля, младший. Петька моряк, Борис поэт и художник, Славик вор-рецидивист, Ленька строитель, Верка воспитательница, Катя продавщица, Васька никто, так и не стал никем, потому что сразу два раза подряд отсидел в тюрьме, и Коля… Кем мог стать Коля Стэсев, этот сверхчеловек, сила которого не вмещается ни в одну из профессий?
Согласитесь, странные слова я только что написал об этой семье. Просто список. Или заметки на полях. Nota bene. Почему не хочется исправить? Не знаю. И стереть нельзя.
Я помню, как Коля, вдруг встрепенувшись, будто отряхиваясь от обычной жизни, объявлял, что сегодня вечером – кино. Четыре танкиста и собака. В семь ноль-ноль. Вход по билетам. Билеты будут выдаваться – не продаваться, а выдаваться – вон через ту дыру в заборе. И нарисованные билеты выдавались, и мы усаживались на полу, на табуретках, на кроватях в единственной комнате их дома вперемежку с Микитой, Мотькой, соседями и смотрели телевизор, первый на нашей улице. Я видел его лицо при этом – наверное, ему казалось, что он все это устроил. Конечно, все пришли бы и так, но он сделал из этого интересный спектакль. И поглядывал на зрителей, как режиссер из-за кулис, проверяя реакцию. Значит, организатор, значит, лидер, – думаю я. Нет, никакой не лидер, не организатор. Он просто хотел, чтобы каждая минута жизни была интереснее, чем намечалась. Я представляю, как Коля выслушивает какого-нибудь психолога, описывающего тип его характера, ухмыляется и выпрыгивает в окно, как, кстати, он сделал в школе, когда его в воспитательных целях выбрали старостой класса. Он сказал: «Не хочу», – а когда ему стали объяснять, что ничего не поделаешь, весь класс его выбрал, он встал, подошел к окну, открыл его – второй этаж – и выпрыгнул из школы. Как потом – из жизни.
Я вспоминаю «он в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклес», вспоминаю Печорина, всех лишних людей, героев, не совпадающих со своим временем. Коля отнюдь не из их числа, даже не начинайте смеяться над моими сравнениями. Наоборот, он часть жизни – в виде его человеческого живого тела соткалась бесконечная окружающая материя. И когда она закончилась, когда деревня исчезла, перестала существовать после чернобыльской катастрофы… Знаете, как он умер? Как Ван Гог. Только не выстрелил в себя из револьвера, а где-то на новом месте, куда переехал и где не захотел жить, лег на кровать и вонзил нож себе в живот. И долго так лежал, ожидая, когда все кончится.
Самое необъяснимое для меня во всей этой истории – его слова, сказанные мне, не помню когда и где, у костра ли, в лесу, в походе или где-то еще: «Когда-нибудь ты об этом расскажешь».
13
Наводя окуляр своей памяти (странный прибор, который я не в силах ни с чем сравнить) на жителей Холочья, я боюсь забыть и навсегда потерять многое из того, что видел тогда, и чувствую при этом, что мой страх связан не только с людьми. Это страх потери виденной когда-то жизни именно в ее картинах и в предметах, эти картины наполнявших. Я так и не научился отмахиваться от него, так и не привык к своему, казалось бы, естественному бессилию помнить все до мельчайших подробностей. Разве можно помнить все? – успокаиваю я себя. На помощь мне приходит мое же собственное открытие, моя мысль о том, что жизнь и не требует таких усилий памяти, не требует такого умения, слов и даже такого желания – она и без этого записывается, пишет себя сама, существует без меня. Нетрудно оказалось понять это, как будто подумал не я, а сама природа, непонятная мне огромная мыслительная субстанция, частью которой являюсь и я.
Но мне мало этого огромного объяснения и оправдания, я хочу быть сильным сам по себе, остаться со своей маленькой силой, как первобытный художник, делающий на стене пещеры простые рисунки.
Как рискую я быть непонятым не только в том, что сейчас написал, но и в том, что напишу вослед. Смейся надо мной, читатель, закрывай книгу в досаде на странные и непонятные слова, но я скажу их, потому что они подтверждают мое сравнение с первобытным художником. Я выбираю из своих воспоминаний о предметном мире, в котором жил, обычную тропинку – точнее, ее часть, ее фрагмент, – как рисунок на стене пещеры.
Тропинка пересекала неглубокую канаву перед шоссе не перпендикулярно, а под углом, наклоняя свою поверхность, как лента Мебиуса, на спуске влево, а на подъеме вправо. Сначала я ожидал этого места, а миновав, вспоминал, решив, что любая дорога должна быть такой – с выбранным из всей ее протяженности отрезком, которому придаешь особенное значение, местом, к которому сначала стремишься, а потом от него отдаляешься. И смысла в нем не меньше, чем в цели, к которой направляешься.
Даже сейчас, вспоминая, я отказываюсь от радости разогнаться на велосипеде и нырнуть в эту ложбину, чтобы потом взлететь на насыпь. Нет, мне больше нравилось идти пешком, удивляясь с каждым шагом ощущению собственной тяжести, вспыхивавшему в этом месте с такой силой, будто земля, вдруг опомнившись, доказывала мне мое существование. На велосипеде нельзя остановиться, а пешком остановиться можно, я всегда это делал внизу, на дне, где лента тропинки начинала переворачиваться, где я и чувствовал свою тяжесть. Вот я шел, и в движении меня почти не было, вот я остановился и появился, вот смотрю себе под ноги на невидимое земное притяжение и становлюсь бесконечным. И даже теперь иногда мне кажется, что думать и чувствовать я научился на этом самом месте, не раньше и не позже, а когда впервые понял, что я – не только я, а часть всего. Что все пронесшееся во мне становится уже не только моим, но и растворенным в этой тропинке, как дождь. Помню, как я думал об этом, и свидетель тому мое недовольство, что никак не удавалось сравнить себя с каплями дождя, наверное, не хватало внешнего сходства.
Скоро осень, скоро школа, я буду каждый день проходить по этой тропинке, видеть под ногами эти гладкие и втоптанные в плотную землю камешки – дробящие мои чувства или собирающие их воедино? Маленький кирпичный осколок напомнил о печнике, который, смеясь, дал мне понюхать в пригоршне глинистый раствор, пахнущий, по его утверждению, яичницей, и когда я приблизил нос, ткнул в него раствором, заполнив ноздри – в этом и состояла его шутка. Наверное, когда-то в его детстве так подшутили и над ним, но я уж точно не стану продолжать эту традицию, она забудется. Останется только печка.
В который раз я не решаюсь вытащить из тропинки другой, овальный камень, чем-то похожий на меня самого. Я представлял его еще по дороге через поле, решив, что он должен лежать у меня в кармане, чтобы всегда и везде была со мной эта весомая частица мира. Мне хочется такого соединения, но не могу нарушить здесь ничего, сразу представляя, что буду потом укладывать камень на место, смеясь над собой из-за этого странного занятия, как будто кто-то опять надо мной подшутил. Я сам. Разве это мысли? – думаю я. Разве это чувства? Разве сливается эта тропинка с жизнью, ее окружающей? А я, словно отвечая, вглядываюсь в неповторимую этим летом, после весенних и дождевых ручьев, мозаику впечатанных камней, сравниваю их с людьми, знакомыми и неизвестными, оживляя их застывшую жизнь. Засохшие листья и травинки переносятся ветром, и в этом соединении движения и покоя появляется доказательство того, что я, глядя на это, перенес сюда свои чувства, которых здесь не было без меня. Я переносил их тогда даже на расстоянии, находясь дома или в другом месте дороги, это же делаю и сейчас, из другого времени.