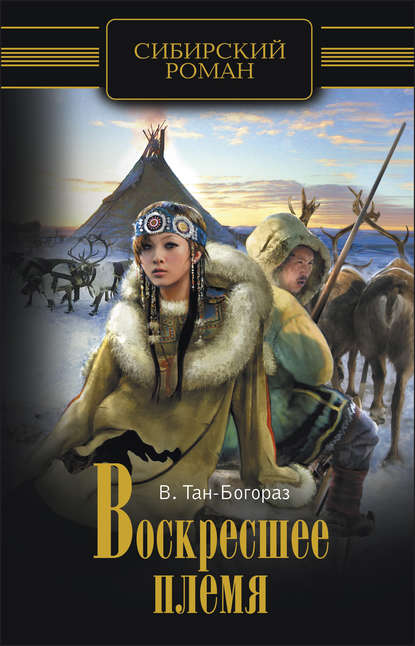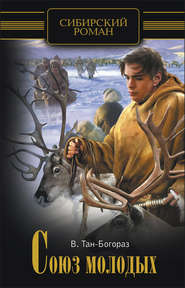По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воскресшее племя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы, помогайте, – сказал он товарищам.
И эвенские мальчики схватили свои луки, которыми когда-то убивали в лесу последних своих белок, наложили стрелы-костянки и стали рядом с Капитоном.
Хаспо схватила кроильную палемку[16 - Пал емка – женский нож.], обычное оружие женщин, и даже безответная Манкы вооружилась круглым железным скребком на длинной деревянной рукоятке, предназначенным для выделки шкур.
В этом разнообразном вооружении они пошли на хозяина грудью, как на медведя.
На хозяйской половине тоже послышались шум и движение. Выскочил из двери сын Спиридона с кремневым ружьем. Его звали тоже Спиридоном, и он был как копия отца, только помоложе. За ним проскочила его жена Палаха с батасом в руке. Она сунула этот огромный нож, похожий на меч, своему старому свекру. Спиридонова старуха шагнула через порог своими больными ногами просто со сковородником в руках.
Старая Хдопо упала неожиданно на колени.
– Хозяйка, – простонала она и стукнулась в землю лбом. – Дай чистую рубаху, никогда не носила, хочу перед смертью надеть.
– Ты, сволочь старая! – Хозяйка нетерпеливо толкнула ее ногой.
– Ах, сиренгес![17 - Грубое ругательство.] – выругался Капитон, выдвигая копье.
Схватка готова была начаться, но на улице раздался шум, крики. В дверь вскочили другие работники. Их было человек двадцать. Тут были пастухи от коней и оленей, ночевавшие на пастбище, дровосеки из леса, бедные соседи Спиридона, жившие рядом, в двух маленьких юртах, обмазанных глиной и навозом и скорее похожих на земляные кучи, чем на людские жилища. Они тоже были у Спиридона в постоянном долгу, работали на него почти так же, как его домашняя челядь. И все они кричали:
– Давай, масла давай, хорошего куска не видали, чаю давай, табаку!
Женщины кричали:
– Иголки поломали, ниток, иголок давай, необшитые ходим. Шелку давай вышивального!
И даже маленькие дети пищали:
– Сахару дай, леденцов.
Жившие в вечном голоде, в злой нищете, работники рвались к воле и требовали удовлетворения простейших прав своих: сытой пищи, крепких заплаток на ветхую одежду, ярких узоров на одежде для услаждения глаз.
Спиридон бесстрашно направил ружье в кричащую толпу.
– Пустите, выстрелю!
Глаза его горели, как у волка. Он пошел к выходу, и никто не посмел остановить его. Не говоря ни слова, вывел он из конского хлева своего вороного огромного коня и стал седлать его.
Капитон выскочил вслед со своим огромным копьем.
– За солдатами поедешь – заколю.
– Какие солдаты! – отмахнулся старик.
Сыновья и невестки Спиридона тоже выводили и седлали лошадей, выносили из юрты переметные сумы, набитые всяким добром, – тут были лучшие меха, которые на Севере каждый торговец хранит у себя в изголовье, нарядная одежда, серебро. Вывели старуху, посадили на лошадь, связали ей ноги под седлом, чтобы она не свалилась. Восставшие несколько притихли. Было похоже на то, что семья Спиридона уезжает надолго и бросает гнездо, не надеясь его отстоять.
– Всего не возьмут, – размышляли мятежники. – Главное осталось – еда, доильные коровы, лошади, олени – лучшее богатство северного скотовода.
Вьючных лошадей не хватило.
– Сходите, приведите лошадей! – крикнул Спиридон сурово, однако не обращаясь прямо ни к кому – Сколько? – спросил Капитон с привычною деловитостью.
Спиридон быстро прикинул в уме. – Шесть лошадей, – распорядился он.
– Хорошо, – согласился Капитон. – Мишка, Иннокентий! Сходите, приведите.
Два конюха быстро отделились от толпы и направились в лес.
Еще через час лошади были приведены.
– Бери, хозяин, – предложил Капитон почти дружелюбно.
Другие работники стали вьючить лошадей остатками клади.
Целый караван лошадей, верховых и вьючных, вышел на дорогу.
Спиридон в воротах оглянулся.
– Мы уезжаем, а вы оставайтесь, – сказал он.
Было похоже, как будто он произвел дележ имущества и расстался по-хорошему со своими прежними работниками.
Вдруг лицо его налилось кровью. Он выругался крепким словом по-русски и погнал коня по узкой таежной тропе.
Глава седьмая
Две недели пировали работники в богатом гнезде Спиридона Кучука. Хозяйство с виду шло по-старому. Кормили и доили коров, квасили молочные удои, ходили на высмотры сетей в луговые озера, оленей пасли, лошадей и даже собирались идти на якутскую страду, тяжелый и мокрый покос на болоте, но так и не пошли. Перед тем как устроить покос, затеяли отвальную. Зарезали молодого конька, был он неезженый, в белом жиру, с нежным мясом, слаще, чем мясо ягненка. Конского жиру натопили и сбили его, смутовили с растопленным маслом, приготовляя угощение, достойное богов. Подоили кобылиц и сварили молодого кумыса. Вышел по всем правилам якутский исыэх – праздник, одинаково угодный и людям, и духам.
А пастух Прокопей решился на большее: достал из хозяйских запасов муки и сахару, вывернул ствол из ружья и принялся варить самогон. В этих местах самогона никогда не варили. Сахар и мука слишком были редки и дороги. И Прокопей знал об этом деле только через десятые руки. Все же он устроил куб, наквасил муки с приголовьем и на медленном огне стал охлаждать незнакомый напиток.
С конца холодильника падали мутные капли – кап, кап – и через десять часов наполнился целый котел. Была эта невиданная жидкость мутнее болотной воды и горче мухоморного настоя. Но она показалась новым хозяевам заимки небесным, небывалым напитком. Спирт, который сюда привозили порой от русских, был тоже не лучше. Его настаивали на тертом табаке, и он драл горло хуже, чем царская водка.
«Царскую водку» не пьют. Это не водка, а смесь двух кислот: азотной и соляной. Но северяне, пожалуй, могли бы напиться и опиться даже кислотой с таким лицемерным названием.
Пир шел целый день, к вечеру напились, передались и опять за то же. Даже собак накормили отборными костями. В пойло коровам вылили остатки от чертова пива. Коровы жадно вылакали и тоже опьянели. Стучали копытами в хлевах и под навесами, словно собирались плясать. Ревели, мычали. Пьяные люди распевали песни на разных языках: по-якутски, по-эвенски, по-одунски и даже по-русски. Песни были самые простые:
Вот моя трубка,
Трубка,
Я курю хозяйский табак,
Табак…
Коровы и телята тоже как будто подпевали: «Му-у, му-у… Поели Спиридоновой муки, попили огненного пойла, му-у…»
Спиридона не было слышно, и о нем забыли. Во всем околодке делалось то же. Шли такие же бескровные бунты, пока без пожаров, без драки, без пролития крови. Богатые хозяева бежали. Бедняки, батраки, иждивенцы захватили повсюду скот и дома, пировали и думали: вот она, «новая жизнь». По всей тайге и тундре пошел слух: так говорят большаки. Надо весь свет вверх ногами довернуть, чтоб нижние стали вверху, а верхние – внизу. Скот – батракам, покосы – беднякам. Рыбные сети и ловли – для общей работы, рыбу делить поровну. К чертовой матери хозяев! Торговцев не надо, поедем – русские товары сами привезем.
Везде выбирали наслежные советы, в Родчево, к русским пришельцам, послали делегатов.
Хозяева, однако, не исчезли. В таежную глушь на восток ушел Спиридон с сынами и зятьями. Тут была у них далекая заимка, огороженная тыном, как крепость. Коров было мало, но были прекрасные кони, лучшие во всем околотке. Их пасли мурчены из рода эвенков. «Мурчены» значит по-эвенкийски – конники. То были тунгусские охотники, перешедшие от оленеводства к коневодству. Они кочевали, и ездили, и охотились на конях. Были они с виду как будто другое племя. Выше, грубее и чернее малорослых оленных эвенков и эвенов, орочонов, орочелов. Орочоны, орочелы буквально – «оленные люди».
Конные эвенки жили сытнее оленных. Они не должали так много купцам и детей не отдавали якутским соседям в наемные работники. Зато у них у самих понемногу вырастали свои собственные эвенкийские торговцы.
И эвенские мальчики схватили свои луки, которыми когда-то убивали в лесу последних своих белок, наложили стрелы-костянки и стали рядом с Капитоном.
Хаспо схватила кроильную палемку[16 - Пал емка – женский нож.], обычное оружие женщин, и даже безответная Манкы вооружилась круглым железным скребком на длинной деревянной рукоятке, предназначенным для выделки шкур.
В этом разнообразном вооружении они пошли на хозяина грудью, как на медведя.
На хозяйской половине тоже послышались шум и движение. Выскочил из двери сын Спиридона с кремневым ружьем. Его звали тоже Спиридоном, и он был как копия отца, только помоложе. За ним проскочила его жена Палаха с батасом в руке. Она сунула этот огромный нож, похожий на меч, своему старому свекру. Спиридонова старуха шагнула через порог своими больными ногами просто со сковородником в руках.
Старая Хдопо упала неожиданно на колени.
– Хозяйка, – простонала она и стукнулась в землю лбом. – Дай чистую рубаху, никогда не носила, хочу перед смертью надеть.
– Ты, сволочь старая! – Хозяйка нетерпеливо толкнула ее ногой.
– Ах, сиренгес![17 - Грубое ругательство.] – выругался Капитон, выдвигая копье.
Схватка готова была начаться, но на улице раздался шум, крики. В дверь вскочили другие работники. Их было человек двадцать. Тут были пастухи от коней и оленей, ночевавшие на пастбище, дровосеки из леса, бедные соседи Спиридона, жившие рядом, в двух маленьких юртах, обмазанных глиной и навозом и скорее похожих на земляные кучи, чем на людские жилища. Они тоже были у Спиридона в постоянном долгу, работали на него почти так же, как его домашняя челядь. И все они кричали:
– Давай, масла давай, хорошего куска не видали, чаю давай, табаку!
Женщины кричали:
– Иголки поломали, ниток, иголок давай, необшитые ходим. Шелку давай вышивального!
И даже маленькие дети пищали:
– Сахару дай, леденцов.
Жившие в вечном голоде, в злой нищете, работники рвались к воле и требовали удовлетворения простейших прав своих: сытой пищи, крепких заплаток на ветхую одежду, ярких узоров на одежде для услаждения глаз.
Спиридон бесстрашно направил ружье в кричащую толпу.
– Пустите, выстрелю!
Глаза его горели, как у волка. Он пошел к выходу, и никто не посмел остановить его. Не говоря ни слова, вывел он из конского хлева своего вороного огромного коня и стал седлать его.
Капитон выскочил вслед со своим огромным копьем.
– За солдатами поедешь – заколю.
– Какие солдаты! – отмахнулся старик.
Сыновья и невестки Спиридона тоже выводили и седлали лошадей, выносили из юрты переметные сумы, набитые всяким добром, – тут были лучшие меха, которые на Севере каждый торговец хранит у себя в изголовье, нарядная одежда, серебро. Вывели старуху, посадили на лошадь, связали ей ноги под седлом, чтобы она не свалилась. Восставшие несколько притихли. Было похоже на то, что семья Спиридона уезжает надолго и бросает гнездо, не надеясь его отстоять.
– Всего не возьмут, – размышляли мятежники. – Главное осталось – еда, доильные коровы, лошади, олени – лучшее богатство северного скотовода.
Вьючных лошадей не хватило.
– Сходите, приведите лошадей! – крикнул Спиридон сурово, однако не обращаясь прямо ни к кому – Сколько? – спросил Капитон с привычною деловитостью.
Спиридон быстро прикинул в уме. – Шесть лошадей, – распорядился он.
– Хорошо, – согласился Капитон. – Мишка, Иннокентий! Сходите, приведите.
Два конюха быстро отделились от толпы и направились в лес.
Еще через час лошади были приведены.
– Бери, хозяин, – предложил Капитон почти дружелюбно.
Другие работники стали вьючить лошадей остатками клади.
Целый караван лошадей, верховых и вьючных, вышел на дорогу.
Спиридон в воротах оглянулся.
– Мы уезжаем, а вы оставайтесь, – сказал он.
Было похоже, как будто он произвел дележ имущества и расстался по-хорошему со своими прежними работниками.
Вдруг лицо его налилось кровью. Он выругался крепким словом по-русски и погнал коня по узкой таежной тропе.
Глава седьмая
Две недели пировали работники в богатом гнезде Спиридона Кучука. Хозяйство с виду шло по-старому. Кормили и доили коров, квасили молочные удои, ходили на высмотры сетей в луговые озера, оленей пасли, лошадей и даже собирались идти на якутскую страду, тяжелый и мокрый покос на болоте, но так и не пошли. Перед тем как устроить покос, затеяли отвальную. Зарезали молодого конька, был он неезженый, в белом жиру, с нежным мясом, слаще, чем мясо ягненка. Конского жиру натопили и сбили его, смутовили с растопленным маслом, приготовляя угощение, достойное богов. Подоили кобылиц и сварили молодого кумыса. Вышел по всем правилам якутский исыэх – праздник, одинаково угодный и людям, и духам.
А пастух Прокопей решился на большее: достал из хозяйских запасов муки и сахару, вывернул ствол из ружья и принялся варить самогон. В этих местах самогона никогда не варили. Сахар и мука слишком были редки и дороги. И Прокопей знал об этом деле только через десятые руки. Все же он устроил куб, наквасил муки с приголовьем и на медленном огне стал охлаждать незнакомый напиток.
С конца холодильника падали мутные капли – кап, кап – и через десять часов наполнился целый котел. Была эта невиданная жидкость мутнее болотной воды и горче мухоморного настоя. Но она показалась новым хозяевам заимки небесным, небывалым напитком. Спирт, который сюда привозили порой от русских, был тоже не лучше. Его настаивали на тертом табаке, и он драл горло хуже, чем царская водка.
«Царскую водку» не пьют. Это не водка, а смесь двух кислот: азотной и соляной. Но северяне, пожалуй, могли бы напиться и опиться даже кислотой с таким лицемерным названием.
Пир шел целый день, к вечеру напились, передались и опять за то же. Даже собак накормили отборными костями. В пойло коровам вылили остатки от чертова пива. Коровы жадно вылакали и тоже опьянели. Стучали копытами в хлевах и под навесами, словно собирались плясать. Ревели, мычали. Пьяные люди распевали песни на разных языках: по-якутски, по-эвенски, по-одунски и даже по-русски. Песни были самые простые:
Вот моя трубка,
Трубка,
Я курю хозяйский табак,
Табак…
Коровы и телята тоже как будто подпевали: «Му-у, му-у… Поели Спиридоновой муки, попили огненного пойла, му-у…»
Спиридона не было слышно, и о нем забыли. Во всем околодке делалось то же. Шли такие же бескровные бунты, пока без пожаров, без драки, без пролития крови. Богатые хозяева бежали. Бедняки, батраки, иждивенцы захватили повсюду скот и дома, пировали и думали: вот она, «новая жизнь». По всей тайге и тундре пошел слух: так говорят большаки. Надо весь свет вверх ногами довернуть, чтоб нижние стали вверху, а верхние – внизу. Скот – батракам, покосы – беднякам. Рыбные сети и ловли – для общей работы, рыбу делить поровну. К чертовой матери хозяев! Торговцев не надо, поедем – русские товары сами привезем.
Везде выбирали наслежные советы, в Родчево, к русским пришельцам, послали делегатов.
Хозяева, однако, не исчезли. В таежную глушь на восток ушел Спиридон с сынами и зятьями. Тут была у них далекая заимка, огороженная тыном, как крепость. Коров было мало, но были прекрасные кони, лучшие во всем околотке. Их пасли мурчены из рода эвенков. «Мурчены» значит по-эвенкийски – конники. То были тунгусские охотники, перешедшие от оленеводства к коневодству. Они кочевали, и ездили, и охотились на конях. Были они с виду как будто другое племя. Выше, грубее и чернее малорослых оленных эвенков и эвенов, орочонов, орочелов. Орочоны, орочелы буквально – «оленные люди».
Конные эвенки жили сытнее оленных. Они не должали так много купцам и детей не отдавали якутским соседям в наемные работники. Зато у них у самих понемногу вырастали свои собственные эвенкийские торговцы.