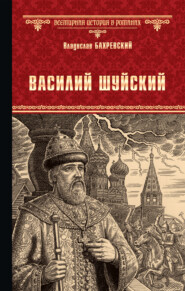По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тишайший (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Серафим ты мой! – Иван Родионович прыгнул из седла в снег, поднял девицу на руки, на коня отнес. – За ее здравие, поп, молись.
Аввакум взял сынишку на плечо:
– Марковна!
И, не оглядываясь, пошел тропинкой к утонувшему в снегу, брошенному своему дому.
7
В последний день февраля, на Василия-капельника, приезжал к Аввакуму крестьянин, привез мешок муки.
– За приношение благодарствую, живем с Марковной не сытно. Только за что такое благодеяние и от кого? – удивился Аввакум.
Крестьянин, человек роста среднего и волосом как бы тоже средний – ни бел, ни черен, рыжим не назовешь, да и не русый, – бороденку пощипал, прокашлялся и голосом самым заурядным рассказал все по порядку.
– Зовут меня Семивёрст сын Иванов. Возле Лопатищ, на пустоши, живем. Шесть коров у меня, три лошади, три сына, овечек держу, курей, гусей, утей. Старшие сыновья женились. Среднего ты сам венчал. Невестки попались – как пчелы. Наравне с мужиками ломаются. Живем-работаем… А тут воевода Иван Родионыч и объявил, что соль на зерно меняет. Соли у меня пудов десять припасено. Прикинул – дело выгодное, в прошлом году сам знаешь, каков был урожай: что посадили, то и собрали. Но все ж таки решил обождать, поглядеть, с чего это Иван Родионыч раздобрился… А потом и беспокойство взяло: не упустить бы жар-птичку-то. И уж совсем собрался к воеводским амбарам, а ты и объявись. В ноги тебе, батько Аввакум, кланяюсь всей семьей.
Крестьянин действительно проворно бухнул на колени и поклонился в ноги Аввакуму. Аввакум поднял Семивёрста.
– Принимаю от тебя дар не потому, что помог тебе избежать убытков, а потому принимаю твой дар, что мой дом в нужде и ты, любя ближнего, поделился скудным хлебом своим.
– Ой, батько Аввакум! – Семивёрст потряс кудлатой головой. – Умные речи мне до ушей только и доходят, а дальше – никак. Видно, щелка, которая в голову слова пропускает, мала да узка. Я ведь всего и умею – пахать, сеять, косить, и тут не всякий мне ровня, тут я молодец… А коль хлебом моим ты доволен, то и я доволен.
– Скажи, – спросил Аввакум, – что это за имя у тебя такое – Семивёрст?
– Да уж такое вот! Веселия ради! Поп у нас до тебя был очень веселый. Во хмелю меня крестил. Да я и не в обиде, правду сказать. Других все равно по именам не зовут. Все больше прозвищами. А у меня и не поймешь, что это – имя или прозвище. Да и нареки меня Ильей – все равна Семивёрст. Я, батько, проворный.
Тут мужичок спохватился вдруг, шапку на голову, попу и попадье покланялся да и за дверь. Аввакум кинулся гостя за стол приглашать, а Семивёрст лошадке свистнул, та и пошла. Повалился мужик с крыльца в кошелку розвальней, вожжой шевельнул, и только – динь-динь-динь – колокольчик под дугой.
8
Отслужив утренние службы, Аввакум торопливо погасил свечи и уж собирался сложить с себя облачение – служить в тот день пришлось одному, дьячок запил, – как вошла в церковь женщина.
– Батюшка, исповедай.
Аввакум глянул с тоскою на оконца, в которые бил настоящий весенний мартовский свет, хотя первый день марта только начинался.
Женщина подошла к налою, на котором лежало толстое, с медными крышками Евангелие. Дотронулась рукой до книги и будто обожглась, руку отдернула, голову опустила. Аввакум поглядел на нее и обмер: перед ним стояла Палашка.
– Слушаю тебя, дщерь! – сказал Аввакум, и голос его дрогнул.
– Отдалась я впервой девчонкой. Молоденький барин наш колечко мне с камушком бирюзой подарил. Мне и понравилось, хотя шел мне тогда тринадцатый год. Да и барчук, правду сказать, старше меня не намного был…
Горячая лапа схватила Аввакума за горло, разодрала грудь и принялась сжимать сердце… Палашка что-то говорила, говорила, а в нем крутился бешеный вихрь, затмевая разум.
«Господи!» – взмолился про себя Аввакум, стряхивая наваждение, и слух наконец вернулся к нему.
– Ладно бы один, а то двое их было, – говорила Палашка. – Иван-то Родионович сначала все глядел, будто бы ему противно, как кот фыркал, а потом тюремщика от меня оттащил да и сам кинулся как боров. В том и грех мой, что противен он мне был, а я терпела ради денег и ради дружка моего…
Теперь весь этот ужас долетал до слуха как бы сквозь птичий пух. Будто перебили всех птиц, ощипали да и пустили по ветру… А в голове роился жирненкий вопрос: как же это вдвоем-то?
«Сатана!» – хотелось крикнуть Аввакуму, но поглядел он в глаза женщины, а в них все тот же отчаянный вопрос и никакого паскудства в том вопросе, одно черное отчаянье.
«О каком тюремщике она говорит?.. Кого она спасти, отдавшись, хотела? Все мимо ушей пропустил, окаянный!»
Метнулся Аввакум по церкви, взял три свечи, зажег, прилепил к налою и ладонь под пламя поставил.
Вскрикнула женщина. Попятилась в темную глубину церкви, а оттуда засмеялась вдруг и легко так, хвостом покачивая, блудница блудницей, пошла из храма вон.
Только тогда и отнял у огня руку свою Аввакум. Вся ладонь в пузырях, от боли в ушах свист комариный, тонюсенький, а в груди чисто.
Вышел Аввакум из церкви, запер дверь на замок. Встал перед улицей – весна.
Березы влажные, через веточки небо сквозит. Вся детвора из избенок высыпала, словно грачи прилетели. Кричат друг другу и прохожим:
– Весна красна, что ты нам принесла?
И в ответ им все говорили, улыбаясь:
– Красное леточко!
Опустил Аввакум больную руку в сугроб, огонь так и потек с ладони на пальцы и каплями в снег стал уходить.
Пошел к своей избушке Аввакум дворами. Видел, как то там, то здесь выбегали к банькам девки, оглядывались, не подсматривает ли кто, и торопливо умывались снегом. Мартовская вода от веснушек и загара.
В избе было светло и тихо. Сынок Ванюшка стоял, держась одной рукой за край деревянной бадейки, другой рукою ловил в бадейке тоненькие льдинки и совал льдинки в рот.
Аввакум присел на корточки, отобрал у сына лед. Бадейку поставил на лавку. Скинул шубу, шапку, посадил сына на здоровую руку и прошел за занавеску: Марковна лежала.
– Зачем воду таскаешь? – укоризненно покачал головой Аввакум.
– Ну а как же? – прошептала Марковна.
– Голубушка моя!
– Обед-то у меня готов! – Она поднялась было, но Аввакум не дал ей встать.
– Лежи! Сам управлюсь… Да и есть не хочется. Сыну стало скучно сидеть у отца на руках, завозился. Аввакум пустил его на пол.
– Боже ты мой! – увидала Марковна изуродованную руку. – Да что же это?
– Крестил. Кипяток бухнули. А я и попробовал воду на ощупь. – Сказал все это и волосами потряс сокрушенно. – Бес в меня, Марковна, вселился. Брешу как пес смрадный.
– Аввакумушка, да что с тобой? – Марковна потянулась к Аввакуму руками.
Он наклонился, положил тяжелую голову свою на набухающую молоком грудь жены. И услышал, как бьются два сердца.
– Марковна!
Аввакум взял сынишку на плечо:
– Марковна!
И, не оглядываясь, пошел тропинкой к утонувшему в снегу, брошенному своему дому.
7
В последний день февраля, на Василия-капельника, приезжал к Аввакуму крестьянин, привез мешок муки.
– За приношение благодарствую, живем с Марковной не сытно. Только за что такое благодеяние и от кого? – удивился Аввакум.
Крестьянин, человек роста среднего и волосом как бы тоже средний – ни бел, ни черен, рыжим не назовешь, да и не русый, – бороденку пощипал, прокашлялся и голосом самым заурядным рассказал все по порядку.
– Зовут меня Семивёрст сын Иванов. Возле Лопатищ, на пустоши, живем. Шесть коров у меня, три лошади, три сына, овечек держу, курей, гусей, утей. Старшие сыновья женились. Среднего ты сам венчал. Невестки попались – как пчелы. Наравне с мужиками ломаются. Живем-работаем… А тут воевода Иван Родионыч и объявил, что соль на зерно меняет. Соли у меня пудов десять припасено. Прикинул – дело выгодное, в прошлом году сам знаешь, каков был урожай: что посадили, то и собрали. Но все ж таки решил обождать, поглядеть, с чего это Иван Родионыч раздобрился… А потом и беспокойство взяло: не упустить бы жар-птичку-то. И уж совсем собрался к воеводским амбарам, а ты и объявись. В ноги тебе, батько Аввакум, кланяюсь всей семьей.
Крестьянин действительно проворно бухнул на колени и поклонился в ноги Аввакуму. Аввакум поднял Семивёрста.
– Принимаю от тебя дар не потому, что помог тебе избежать убытков, а потому принимаю твой дар, что мой дом в нужде и ты, любя ближнего, поделился скудным хлебом своим.
– Ой, батько Аввакум! – Семивёрст потряс кудлатой головой. – Умные речи мне до ушей только и доходят, а дальше – никак. Видно, щелка, которая в голову слова пропускает, мала да узка. Я ведь всего и умею – пахать, сеять, косить, и тут не всякий мне ровня, тут я молодец… А коль хлебом моим ты доволен, то и я доволен.
– Скажи, – спросил Аввакум, – что это за имя у тебя такое – Семивёрст?
– Да уж такое вот! Веселия ради! Поп у нас до тебя был очень веселый. Во хмелю меня крестил. Да я и не в обиде, правду сказать. Других все равно по именам не зовут. Все больше прозвищами. А у меня и не поймешь, что это – имя или прозвище. Да и нареки меня Ильей – все равна Семивёрст. Я, батько, проворный.
Тут мужичок спохватился вдруг, шапку на голову, попу и попадье покланялся да и за дверь. Аввакум кинулся гостя за стол приглашать, а Семивёрст лошадке свистнул, та и пошла. Повалился мужик с крыльца в кошелку розвальней, вожжой шевельнул, и только – динь-динь-динь – колокольчик под дугой.
8
Отслужив утренние службы, Аввакум торопливо погасил свечи и уж собирался сложить с себя облачение – служить в тот день пришлось одному, дьячок запил, – как вошла в церковь женщина.
– Батюшка, исповедай.
Аввакум глянул с тоскою на оконца, в которые бил настоящий весенний мартовский свет, хотя первый день марта только начинался.
Женщина подошла к налою, на котором лежало толстое, с медными крышками Евангелие. Дотронулась рукой до книги и будто обожглась, руку отдернула, голову опустила. Аввакум поглядел на нее и обмер: перед ним стояла Палашка.
– Слушаю тебя, дщерь! – сказал Аввакум, и голос его дрогнул.
– Отдалась я впервой девчонкой. Молоденький барин наш колечко мне с камушком бирюзой подарил. Мне и понравилось, хотя шел мне тогда тринадцатый год. Да и барчук, правду сказать, старше меня не намного был…
Горячая лапа схватила Аввакума за горло, разодрала грудь и принялась сжимать сердце… Палашка что-то говорила, говорила, а в нем крутился бешеный вихрь, затмевая разум.
«Господи!» – взмолился про себя Аввакум, стряхивая наваждение, и слух наконец вернулся к нему.
– Ладно бы один, а то двое их было, – говорила Палашка. – Иван-то Родионович сначала все глядел, будто бы ему противно, как кот фыркал, а потом тюремщика от меня оттащил да и сам кинулся как боров. В том и грех мой, что противен он мне был, а я терпела ради денег и ради дружка моего…
Теперь весь этот ужас долетал до слуха как бы сквозь птичий пух. Будто перебили всех птиц, ощипали да и пустили по ветру… А в голове роился жирненкий вопрос: как же это вдвоем-то?
«Сатана!» – хотелось крикнуть Аввакуму, но поглядел он в глаза женщины, а в них все тот же отчаянный вопрос и никакого паскудства в том вопросе, одно черное отчаянье.
«О каком тюремщике она говорит?.. Кого она спасти, отдавшись, хотела? Все мимо ушей пропустил, окаянный!»
Метнулся Аввакум по церкви, взял три свечи, зажег, прилепил к налою и ладонь под пламя поставил.
Вскрикнула женщина. Попятилась в темную глубину церкви, а оттуда засмеялась вдруг и легко так, хвостом покачивая, блудница блудницей, пошла из храма вон.
Только тогда и отнял у огня руку свою Аввакум. Вся ладонь в пузырях, от боли в ушах свист комариный, тонюсенький, а в груди чисто.
Вышел Аввакум из церкви, запер дверь на замок. Встал перед улицей – весна.
Березы влажные, через веточки небо сквозит. Вся детвора из избенок высыпала, словно грачи прилетели. Кричат друг другу и прохожим:
– Весна красна, что ты нам принесла?
И в ответ им все говорили, улыбаясь:
– Красное леточко!
Опустил Аввакум больную руку в сугроб, огонь так и потек с ладони на пальцы и каплями в снег стал уходить.
Пошел к своей избушке Аввакум дворами. Видел, как то там, то здесь выбегали к банькам девки, оглядывались, не подсматривает ли кто, и торопливо умывались снегом. Мартовская вода от веснушек и загара.
В избе было светло и тихо. Сынок Ванюшка стоял, держась одной рукой за край деревянной бадейки, другой рукою ловил в бадейке тоненькие льдинки и совал льдинки в рот.
Аввакум присел на корточки, отобрал у сына лед. Бадейку поставил на лавку. Скинул шубу, шапку, посадил сына на здоровую руку и прошел за занавеску: Марковна лежала.
– Зачем воду таскаешь? – укоризненно покачал головой Аввакум.
– Ну а как же? – прошептала Марковна.
– Голубушка моя!
– Обед-то у меня готов! – Она поднялась было, но Аввакум не дал ей встать.
– Лежи! Сам управлюсь… Да и есть не хочется. Сыну стало скучно сидеть у отца на руках, завозился. Аввакум пустил его на пол.
– Боже ты мой! – увидала Марковна изуродованную руку. – Да что же это?
– Крестил. Кипяток бухнули. А я и попробовал воду на ощупь. – Сказал все это и волосами потряс сокрушенно. – Бес в меня, Марковна, вселился. Брешу как пес смрадный.
– Аввакумушка, да что с тобой? – Марковна потянулась к Аввакуму руками.
Он наклонился, положил тяжелую голову свою на набухающую молоком грудь жены. И услышал, как бьются два сердца.
– Марковна!