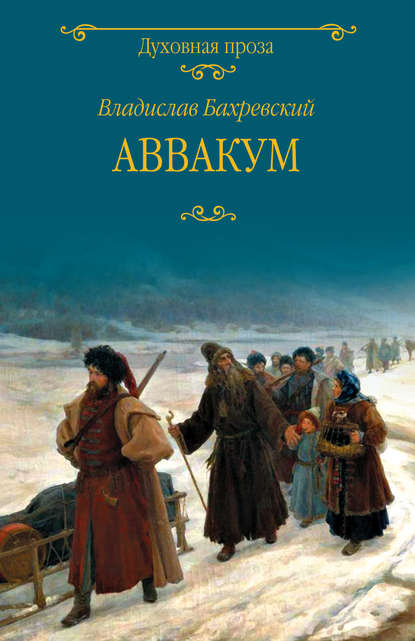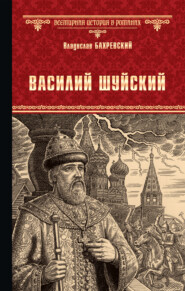По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Аввакум
Жанр
Серия
Год написания книги
2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да они все – попрошайки! На черное, ради милостыни, скажут – белое. И глазом не моргнут. Вздумается Никону в церквах по-козлиному блеять, тотчас и подбрехнут: истинно-де!
– Голубушка, не говорила бы ты этак! На Никоне благодать Божия.
– И на нас она, на царях, благодать. Не худшая, чем на Никоне. Нечего мне про него думать! О тебе пекусь. Ты – царь! Тебе перед Богом за людей ответ держать.
Алексей Михайлович долго виновато молчал. Вздохнул.
– Ты не права, голубушка! Никон – великий святитель. Он о государстве не меньше моего печется. Без него мне хоть пропадай. Все ж ведь у нас дуром делается. Живут дуром, воюют дуром. А Никона – боятся! Меня тоже, да не все… А его – все! Мне без него, голубушка, нельзя.
Осторожно погладил царицу по щечке:
– Ты уж не серчай на меня. У меня тоже ведь сердце кровью обливается. Уж через неделю ехать от тебя… От Алексеюшки-сыночка, от сестриц. Скучлив я по дому!.. На иконы битые глядючи, я не меньше твоего плакал и печалился. Но ведь не унимаются злыдни! Не велено писать латинских икон – пишут! Не велено в домах ставить – ставят! У нас коли не поколотишь, так и не почешутся.
– Ох! – вздохнула царица.
Царь подумал-подумал и тоже вздохнул.
13
В то Соборное Воскресение на Неделе Православия в Тобольске произошли события, повергшие в страх многих бывалых храбрецов.
Среди еретиков и прочих хулителей православия, подвергшихся троекратному анафематствованию, был помянут защитник блудодея и кровосмесителя Иван Струна. Анафему произносил сам архиепископ Симеон, а сослужили ему в тот день все тобольские протопопы, иеромонахи, попы и дьяконы.
Едва прозвучало имя Струны, как боярский сын Петр Бекетов вскочил на алтарь и, замахнувшись на архиепископа, на стоявшего рядом с ним Аввакума, заорал, как на площади:
– Ах вы, сучье вымя! Царских слуг проклинать? Я вашим же проклятьем, как коровьей лепехой, в морды вам! В морды! Гривастые кобели! Рыла паскудные! Ну, погодите же у меня! Пошли, ребята, отсюда, от этих вонючих козлов!
Выскочил из церкви, какое слово ни скажет – все матерное. Вдруг зашатался, споткнулся. Лег. Да и умер.
Тотчас вышел из церкви с высоко поднятым крестом протопоп Аввакум и сказал с паперти, как с небес:
– Хулил Бога и Божеское – и ныне мертв и хулим всеми. Да обойдет сие тело жена и сын и всякий человек, ибо в нем дьявол и смерть. Пусть собаки его пожрут, лаятеля Бога, православия и священства.
Архиепископ жестокий запрет аввакумовский утвердил словом и молитвой.
Тело знатного землепроходца три дня лежало на площади, и никто не посмел подступиться к нему. Все три дня Аввакум не выходил из церкви, молясь по душе усопшего, чтоб в день века отпущено ему было.
На четвертый архиепископ Симеон с протопопами и попами похоронил Петра Бекетова с почестями, положенными царскому человеку. Слез было пролито в тот день обильно, через прощение Бекетову всякий житель Тобольска чувствовал себя разрешенным от грехов. Один Иван Струна не унялся. Пришел к воеводе и сказал на Аввакума: «Слово и дело!» Все про то же, да еще смерть Бекетова на него взвалил.
Князь Хилков хоть и сочувствовал Аввакуму, однако донос о хуле на царя, патриарха и на царева слугу ни скрыть, ни задержать не смел. Отправил в Москву.
14
Савва, излечившийся в монастыре от ран, возвращался домой в деревню Рыженькую. Оставалось, после долгого пути, совсем немного.
Он шел целиною, мимо дороги – прямым путем, и мальчишечье озорство наполняло его сердце, и был он радостен, как телок.
Март выстлал крепкие, скрипящие под ногою насты. То звенела весна. От полыхающего злато-белым огнем снега исходил такой чистый дух, что душа принималась дрожать от весеннего нетерпения.
Мир купался в свету.
Савва, хоть и тащил на себе мешок поклажи, не чуял ни мешка, ни тела своего. Уж такая эта пора – март! Медведь в берлоге птицей себе снится.
Словно купол, обтянутый белыми атласами, отбрасывая снопы золотистого света в синее небо, на десять верст окрест блистала Рыженькая.
Савва остановился, глядя на деревню. Щуря глаза, поискал двор тестя.
По здравому рассуждению, надо было бы зайти к Малаху.
Не зашел.
В лес кинулся, к Енафе ненаглядной.
Праздник так праздник! Пусть сполна будет! Ну а ежели что иное… так про то лучше не думать. Смотришь – пронесет.
В лесу неба убавилось, а света словно бы и прибыло. Снизу вверх струился. Каждое дерево в убранстве, всякий сугроб – как шапка Мономаха.
Певуч мартовский свет, но в душе Саввы песня с каждым шагом тишала да и совсем смолкла. Тревога, как снежный ком, обваляла сердце.
Шел Савва сначала все бездорожьем, полагаясь на твердый наст и память, а потом, чтоб не сбиться, на тропу вышел.
Тропа оказалась набитая. Стало быть, людей в лесу много. Братья вернулись?.. Бег свой бестолковый поумерил. Война научила: сначала посмотри, а потом уж и высовывайся… Шел, шел Савва – да и стоп! Голоса из-под земли.
Замер, дыхание затаил – поют. Звук глухой, суровый, и точно – из-под земли его ветром тянет.
Сошел Савва с тропы. От дерева к дереву, как заяц, скачет и все слушает. Что за притча? Откуда оно взялось, подземное царство? Или, может, Лесовуха в колдовстве расстаралась?
Вот и поляна наконец. Дом Лесовухи… На крыше – крест! Вместо изгороди – кресты. Огромные, из бревен.
Хотел Савва в лес податься, обойти поляну стороной. Повернулся – человек с дубьем. Через плечо глянул – еще мужик.
– Кого выглядываешь?
Савва руку за спину – да и выдернул из мешка кистень.
– А вы кто такие?
– С тебя спрос! Мы – тутошние.
– Э, нет! – рассердился Савва. – Это я тутошний. С вас будет спрос за мою жену и дите!
Мужики опустили дубины:
– Ты муж благоверной Енафы?
– Благоверной?! Да что у вас тут, монастырь?!
– Не шуми, – сказали ему. – У нас житье тихое, несуетное…
– Голубушка, не говорила бы ты этак! На Никоне благодать Божия.
– И на нас она, на царях, благодать. Не худшая, чем на Никоне. Нечего мне про него думать! О тебе пекусь. Ты – царь! Тебе перед Богом за людей ответ держать.
Алексей Михайлович долго виновато молчал. Вздохнул.
– Ты не права, голубушка! Никон – великий святитель. Он о государстве не меньше моего печется. Без него мне хоть пропадай. Все ж ведь у нас дуром делается. Живут дуром, воюют дуром. А Никона – боятся! Меня тоже, да не все… А его – все! Мне без него, голубушка, нельзя.
Осторожно погладил царицу по щечке:
– Ты уж не серчай на меня. У меня тоже ведь сердце кровью обливается. Уж через неделю ехать от тебя… От Алексеюшки-сыночка, от сестриц. Скучлив я по дому!.. На иконы битые глядючи, я не меньше твоего плакал и печалился. Но ведь не унимаются злыдни! Не велено писать латинских икон – пишут! Не велено в домах ставить – ставят! У нас коли не поколотишь, так и не почешутся.
– Ох! – вздохнула царица.
Царь подумал-подумал и тоже вздохнул.
13
В то Соборное Воскресение на Неделе Православия в Тобольске произошли события, повергшие в страх многих бывалых храбрецов.
Среди еретиков и прочих хулителей православия, подвергшихся троекратному анафематствованию, был помянут защитник блудодея и кровосмесителя Иван Струна. Анафему произносил сам архиепископ Симеон, а сослужили ему в тот день все тобольские протопопы, иеромонахи, попы и дьяконы.
Едва прозвучало имя Струны, как боярский сын Петр Бекетов вскочил на алтарь и, замахнувшись на архиепископа, на стоявшего рядом с ним Аввакума, заорал, как на площади:
– Ах вы, сучье вымя! Царских слуг проклинать? Я вашим же проклятьем, как коровьей лепехой, в морды вам! В морды! Гривастые кобели! Рыла паскудные! Ну, погодите же у меня! Пошли, ребята, отсюда, от этих вонючих козлов!
Выскочил из церкви, какое слово ни скажет – все матерное. Вдруг зашатался, споткнулся. Лег. Да и умер.
Тотчас вышел из церкви с высоко поднятым крестом протопоп Аввакум и сказал с паперти, как с небес:
– Хулил Бога и Божеское – и ныне мертв и хулим всеми. Да обойдет сие тело жена и сын и всякий человек, ибо в нем дьявол и смерть. Пусть собаки его пожрут, лаятеля Бога, православия и священства.
Архиепископ жестокий запрет аввакумовский утвердил словом и молитвой.
Тело знатного землепроходца три дня лежало на площади, и никто не посмел подступиться к нему. Все три дня Аввакум не выходил из церкви, молясь по душе усопшего, чтоб в день века отпущено ему было.
На четвертый архиепископ Симеон с протопопами и попами похоронил Петра Бекетова с почестями, положенными царскому человеку. Слез было пролито в тот день обильно, через прощение Бекетову всякий житель Тобольска чувствовал себя разрешенным от грехов. Один Иван Струна не унялся. Пришел к воеводе и сказал на Аввакума: «Слово и дело!» Все про то же, да еще смерть Бекетова на него взвалил.
Князь Хилков хоть и сочувствовал Аввакуму, однако донос о хуле на царя, патриарха и на царева слугу ни скрыть, ни задержать не смел. Отправил в Москву.
14
Савва, излечившийся в монастыре от ран, возвращался домой в деревню Рыженькую. Оставалось, после долгого пути, совсем немного.
Он шел целиною, мимо дороги – прямым путем, и мальчишечье озорство наполняло его сердце, и был он радостен, как телок.
Март выстлал крепкие, скрипящие под ногою насты. То звенела весна. От полыхающего злато-белым огнем снега исходил такой чистый дух, что душа принималась дрожать от весеннего нетерпения.
Мир купался в свету.
Савва, хоть и тащил на себе мешок поклажи, не чуял ни мешка, ни тела своего. Уж такая эта пора – март! Медведь в берлоге птицей себе снится.
Словно купол, обтянутый белыми атласами, отбрасывая снопы золотистого света в синее небо, на десять верст окрест блистала Рыженькая.
Савва остановился, глядя на деревню. Щуря глаза, поискал двор тестя.
По здравому рассуждению, надо было бы зайти к Малаху.
Не зашел.
В лес кинулся, к Енафе ненаглядной.
Праздник так праздник! Пусть сполна будет! Ну а ежели что иное… так про то лучше не думать. Смотришь – пронесет.
В лесу неба убавилось, а света словно бы и прибыло. Снизу вверх струился. Каждое дерево в убранстве, всякий сугроб – как шапка Мономаха.
Певуч мартовский свет, но в душе Саввы песня с каждым шагом тишала да и совсем смолкла. Тревога, как снежный ком, обваляла сердце.
Шел Савва сначала все бездорожьем, полагаясь на твердый наст и память, а потом, чтоб не сбиться, на тропу вышел.
Тропа оказалась набитая. Стало быть, людей в лесу много. Братья вернулись?.. Бег свой бестолковый поумерил. Война научила: сначала посмотри, а потом уж и высовывайся… Шел, шел Савва – да и стоп! Голоса из-под земли.
Замер, дыхание затаил – поют. Звук глухой, суровый, и точно – из-под земли его ветром тянет.
Сошел Савва с тропы. От дерева к дереву, как заяц, скачет и все слушает. Что за притча? Откуда оно взялось, подземное царство? Или, может, Лесовуха в колдовстве расстаралась?
Вот и поляна наконец. Дом Лесовухи… На крыше – крест! Вместо изгороди – кресты. Огромные, из бревен.
Хотел Савва в лес податься, обойти поляну стороной. Повернулся – человек с дубьем. Через плечо глянул – еще мужик.
– Кого выглядываешь?
Савва руку за спину – да и выдернул из мешка кистень.
– А вы кто такие?
– С тебя спрос! Мы – тутошние.
– Э, нет! – рассердился Савва. – Это я тутошний. С вас будет спрос за мою жену и дите!
Мужики опустили дубины:
– Ты муж благоверной Енафы?
– Благоверной?! Да что у вас тут, монастырь?!
– Не шуми, – сказали ему. – У нас житье тихое, несуетное…