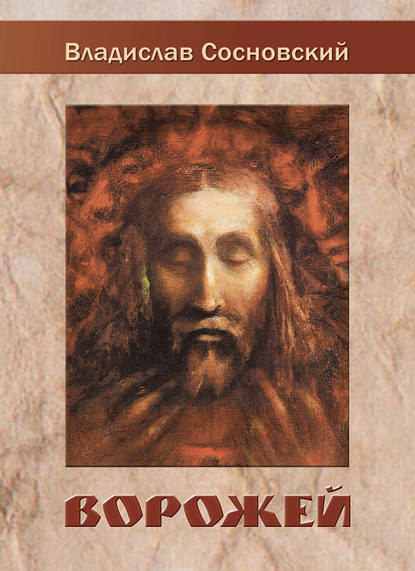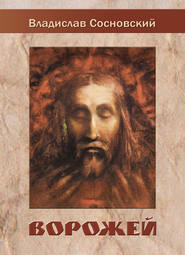По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ворожей (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Один военный в Кремле, – не выдал Василий.
– А тебе-то, правда зачем?
Василий хмурился.
– Без правды род гибнет.
– Чего? Какой такой род?
– Какой, какой, – недовольно бурчал Василий. – Российский.
– Российский, – задумчиво произносил работник тайги. – Это что тебе, сыр?
– Сам ты сыр, – обижался Василий. – А насчет правды я еще в ООН написал. Пересуде Куэльеру. Лично.
– Да, Гегель, – уважали Василия рабочие. – Видать, ты натуральный Гегель. Прописан-то где?
– Да где жа. На Колыме.
– И жена есть?
– Есть. Куда ей деться.
– Как же она тебя терпит? Ведь ты, Гегель, цыган.
– Она кроткая, – улыбался Василий. – Божественная женщина.
Сезонники полюбили Василия за то, что он дурачок, и пригласили отпраздновать с ними победу над сеном.
Праздновать решили в проверенном, не прохожем месте, в одинокой избе на берегу океана у Захара-полицая. В свое время Захара не расстреляли только за то, что он не зверствовал и даже умудрялся передавать кое-какие нужные сведения для подпольщиков. Однако в некоторых операциях не выдержал, поучаствовал поперек партизан. Потому в сорок шестом отправился на вечное поселение в колымскую, ледяную глушь. Тут Захар погоревал о проклятой войне и о своем, таком постыдном в ней участии. Но обжился. Зимой охотничал, летом подавался в рыбсовхоз. Была у него тут и жена, адыгейка, баба таежная, умелая, работящая. Ан вот взяла и ни с того ни с сего без всякого предупреждения померла. Так стал Захар на старости лет бобылем. К нему-то по давней дружбе и направлял Хирург свой праздничный отряд.
В пути выявилось, что пришлый Василий хромой на обе ноги. За свое всеядное влечение к правде и религии он, по его словам, в молодости отбывал кое-какой срок, нарвавшись на истинных марксистов. В лагере на философа обрушилось дерево, но благодаря счастливой звезде Василия, уклонилось чуть в сторону и пало только ему на ноги.
Хирург сразу определил дефект человека и взял с его плеч тяжелый рюкзак с провиантом и вином, позволив Василию нести менее громоздкие вещи плюс портфель с резиновым зайцем. Заяц, как обнаружилось, тоже являлся предметом идеализма, можно сказать, мистики, олицетворяя покорность и кротость. Но мистику Хирург почитал с давних пор за тайную энергию добра, так как сам, не имея инструментов, лечил лагерных больных одним желанием сердца, что целебным теплом стекало на страждущих с его изуродованных рук.
В ленинградской предвариловке Хирургу чуть было не вышибли мозги, отчего потом многое забылось. Он, Хирург, идя, тем не менее, окольным путем, по новой дороге, добрел до того, что есть на свете некая тайная музыка, которая сверху заряжает через позвоночную антенну одного человека, от того поет другому, от него третьему и дальше. И каждый пользуется этим неслышным хором как скрытым языком. Есть и тот, последний, кто тихо посылает мелодию обратно вверх, чтобы налить ее новой силой. Вот тогда, – понимал Хирург, – все происходит заново, и всякий человек, и все люди, согретые тайной музыкой, сплетены с ней, как цветы в венке. Жаль только, не все слышат ее, способную покоить и врачевать…
Вот этой ниспосланной рапсодией и действовал Хирург, что боевым скальпелем.
Из совхоза трое косарей и примкнувший Василий ехали на автобусе, который, как положено, опоздал минут на сорок. За это время сезонники успели хорошо пообедать, утешив, наконец, нервы и заполнив вакуум в желудке. В автобусе у них образовался один общий, братский ум и коллективная память, которой все трое и примкнувший Василий стали шумно пользоваться как орудием дружбы и симпатии. Остальной народ в машине был добровольный, старательский, закатившийся в большинстве своем из теплой Украины и потому – горячий, громкий и беседолюбивый. Все они были кто с мешком, кто с ящиком, где находились разные слесарные инструменты – то ли запчасти, то ли просто молотки-кувалды.
За окном начиналась метель. Белой пылью играла по обочинам поземка. Тяжелые сопки, обросшие редеющей к вершинам древесной шерстью, сидели, съежившись, в снегу. А в автобусе было жарко, накурено и весело. Пахло бензином, овчиной, железом.
– Павло!
– Шо?
– А ну, отгадай загадку, – хитро приглашал своего товарища один щирый магаданец.
– Давай, – согласился тот.
– От-таке маленьке, пухнасте, хвост, четыре ноги, два уха и гавкае… Шо оно такое? Га?
– Тю… – удивленно выразился испытуемый, – та собака ж.
– Та ты, наверно, знав, паразит, – изумился затейник.
Этот человек, добротный, мордатый, в меховом полушубке, громко смеялся от своей шутки густым, раскатистым смехом, сдвинув для прохлады волчью шапку на затылок. И остальные его друзья солидарно радовались тому, что можно скрыть за чушью глубинную боль жизни.
Хирург поставил этому явлению диагноз – всепоощряемая глупость, явление, приобретенное в результате государственного уродства.
Нет, он не винил людей за поверхностный ум. Не было никакой тайны в том, что не от хорошей жизни сорвались они с родных вишневых, тополиных мест Украины и бросились в замороженную Колыму. Они хотели жить сегодня, а не в призрачном завтра; жить, работать, растить детей и не знать ущерба ни в чем. Они и работали, любя свою землю, с утра до ночи, а получали гроши, на которые и купить-то было нечего. Так и перебивались, томясь и мучаясь от тоски окружающего. Одни начинали любить вино, другие, уже не поднимая головы, тянули по унылому кругу свою лямку, третьи, плюнув и перекрестясь на все четыре стороны, подались на Север. Эти работяги не ведали толком ни собственной истории, ни любопытных наук, чего и добивался социализм, и только хваткий ум, выгода да еще доля рисковой удачи держали их в далекой колымской земле. Многие привыкали, прожив на Севере с десяток лет, и уже не могли вернуться в родные края.
Все это Хирург знал и сочувствовал неизвестным старателям теплым сердцем: «Бедолаги, прости, Господи. А что сделаешь – жизнь такая: дурнем легче. Дергай ручки бульдозера или крути баранку, а остальное – катись оно все к такой-то матери».
Правда, в своем деле приисковые рабочие были мастерами. А что не велось разговоров о душе, всеобщем благе – так кто в этом виноват?
В этот сенокосный сезон Хирург набрал в бригаду таких же бичей, каким был и сам. Внешне все они здорово походили на бродячих псов и запах имели соответствующий.
Один из собригадников в прошлом значился боцманом рыболовного судна, потому и кличку получил соразмерную – Боцман. Его списали на берег за кулачную расправу, которую тот учинил над замполитом корабля, застав политического командира в своей постели с собственной женой. Тогда судно стояло на ремонте. Боцман заступил на вахту, но сердце ныло, что-то чувствовало проклятое сердце, да и слухи шелестели по кораблю, и он попросил товарища подменить его на пару часов.
В тот вечер замполит успел удрать от остолбеневшего корабела в окно – благо, был первый этаж. Жена, зная недюжинную силу мужа, в страхе выскочила следом. Боцман же – здоровенный детина с кулаками, похожими на амбарные замки – всю ночь просидел сиднем, тупо повторяя одну лишь фразу: «За что?» Он любил жену, хотел от нее детей, а вышло вон как.
На следующий день замполит сам вызвал боцмана к себе в каюту, чтобы, видимо, уладить как-нибудь конфликт по-хорошему. Боцман был человеком добрым, и он, было, уже принял извинения командира, простил его: бес попутал парня. Но замполит, обрадовавшись, что дело так легко замялось, перестарался, посоветовав боцману в окончание разговора выгнать жену к чертовой матери, раз она такая шлюха. Вот этого боцман стерпеть уже не мог. Он вытащил замполита на палубу и тут, на глазах у многих моряков, одним ударом совершил корабельному политработнику серьезное увечье головы. Боцмана списали, судили, и он вычеркнул из жизни пять муторных, тяжелых лет. На флот он больше не вернулся. Жена канула в пространство, наскоро продав причитающуюся ей половину дома, который боцман купил, когда они поженились. Продала каким-то свинарям. Те тут же развели на всем подворье чавкающее мясо, захватив под жилище для свиней боцманский сарай.
Вернувшись из заключения, боцман махнул на них рукой – делайте, что хотите: дома почти не бывал.
Пока он сидел в тюрьме, у него умерли мать с отцом, жившие под Калугой, и Боцман стал подобен ветру: один на весь белый свет, лети на все четыре стороны. Но из всех четырех сторон, куда можно было кинуть взгляд, Боцману милее была та, что располагалась в направлении океана. Там, между пучиной и небом, обжилось его сердце, а в перекатах волн и видениях дальних берегов пребывала душа.
Сейчас Боцман потерял из слуха веселых старателей. Он просто не мог их слушать: между озябших сопок вдруг показалась бухта с живой серою водой Охотского моря, а дальше, за горизонтом, – Боцман знал это памятью, – проживал огромный влажный организм могучего Океана, который испытывал моряков и кормил людей. Уж кому-кому, а Боцману была известна сила и строгий характер Океана, и за то старый моряк уважал и любил неоглядную гладь беспредельного моря, которое считал своей второй родиной. Ни одного дня не бывало оно одинаковым, и каждые сутки дышало по-разному, создавая очередную тайну природы. И эта постоянная новизна всегда поражала Боцмана, заставляя верить, что Океан – огромное живое существо с тяжелым и грозным нутром.
Иногда Боцману снилось, будто и он родился в океане, только в другом, но столь же мощном Океане под Калугой. Там он питался душистым ветром лугов, леса, пением птиц, криком петухов и сочувствием всему живому. Но зачем он покинул ту первую родину – одному Богу было известно.
– Эх, ма… – вздохнул Боцман вслух. – Какие ветры в тебя дуют, мать ты моя, Россия? – посочувствовал он всей окружающей земле.
– Какие надо, такие и дуют, – бесшабашно откликнулся нечаянный старатель. – Что у тебя, дядя, мыло во рту? Сидишь, как птица. Россию вспомнил. Россию вынесет. Не боись. Мне вон на той неделе жена письмо спустила. У них в детском саде, где она работает и сынок при ней, наводнение произошло. Представляешь ты, у них там, паразитов, ночью труба лопнула. Всех и залило к чертям в один час. Дети мокрые, а считай – зима на носу. Ну, слов нет. Поубивал бы к хренам тех слесарей. Представляешь ты, ну как с ними бороться? Зла не хватает. Женка пишет, Андрюха, сынок, воспаление грудей схватил. Ты представляешь, мать их…
– Они же, холеры, ремонт по десять лет не совершают, болт им в спину. Вот оно и… А как же, – посочувствовал еще один золотоискатель. – Не только труба, потолок рухнет.
– О то точно, – подтвердил мордатый. – Сидят в конторах, как умные Маши. Бумажки пишут, разговоры делают, а люди страждают. Ух, и ненавижу эту шваль. Покрутишься с ними – поневоле на Север утечешь.
– А ты где проживаешь? – поинтересовался у пострадавшего Василий.
– Какая разница, – почему-то обозлился на Василия золотодобытчик. – Везде одно и то же, – политически обобщил он. – Кругом одна труха. А ты – Россия…
– Дура ты подкильная, – беззлобно осерчал Боцман. – Вот это тебе и есть натуральная Россия, когда всем на все наплевать стало. На людей, на лес, на море, на все. За что боролись, на то и… Между прочим, на материке дома на тротуары валятся, террористы по стране гуляют. А ты тут в песке золотом роешься, все рубли хочешь сгрести.
– А ты-то что же не двигаешь в свою Россию? – совсем перестал веселиться старатель.