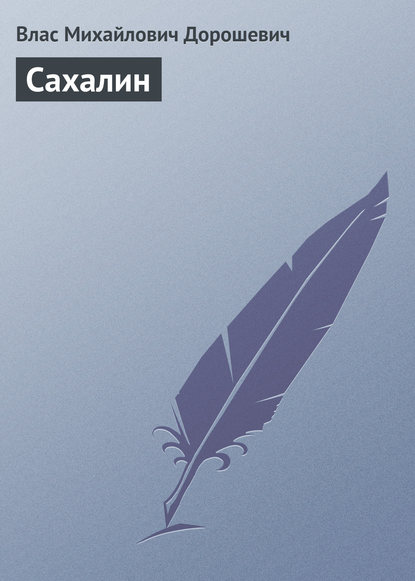По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сахалин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я ему покажу «привилегированность»! – это превратилось в пункт помешательства К.
Однажды он застал Ландсберга в кабинете одного из служащих. Сидели и разговаривали. Этого только К. и нужно было:
– Что? Как? Сидеть в присутствии начальства? Каторжнику? Заковать в кандалы! Посадить на неделю в карцер!
И Ландсберг в кандалах высидел неделю на хлебе и на воде, в темном карцере, а К. гордился:
– Каково я самому Ландсбергу задал!
С другой стороны, и каторгу возмущала «несправедливость».
– За то же сослан, что и мы. Может, еще хуже!
Каторга ненавидела «барина», «белоручку», «подлипалу», самозваное начальство, и Ландсбергу надо было держаться очень и очень настороже. При малейшем подозрении, что он «держит руку начальства», каторга его бы убила.
Тут уж ему помогла, быть может, светская ловкость. Он умел поддерживать отношения и с нашими, и с вашими. И начальство было довольно, и для каторги он оставался «товарищем», подчиняющимся ее законам. Ловкость, хитрость и изворотливость все время были в ходу и пускались в дело все долгое время каторги. На Сахалине известен, например, случай, когда Ландсберг спас жизнь одному из служащих. Каторга ненавидела этого служащего, решила его убить на дорожных работах, и Ландсбергу было приказано привести его в засаду.
Привести – рисковать головой. Ослушаться каторги – тоже рисковать головой.
Ландсберг придумал хитрую механику. Он повез служащего в засаду, но по дороге, еще далеко от засады, экипаж «вдруг» сломался, и Ландсберг убедил начальство:
– Пешком все равно на работы опоздаем. Вернемся лучше обратно в пост.
И служащий был спасен, и приказание каторги не нарушено: вез человека, да не довез, не по своей воле. А на следующий день Ландсберг раскассировал зачинщиков по разным работам – разъединил, и о засаде не могло быть и речи.
Кончив каторгу и выйдя на поселение, Ландсберг завел лавочку, в которой продается все: дуги и гармоники, ситцы и деготь, кнутовища и конфеты.
Это какое-то уменье найтись всегда и во всех положениях. Превратившись в мелкого лавочника, блестящий гвардейский офицер сразу оказался великолепным мелким лавочником. Он повел дело отлично. Его лавочка росла и росла. Он заводил связи с торговыми фирмами.
И когда я поехал к Карлу Христофоровичу Ландсбергу, на мачте около его хорошенького, чистенького домика развевался флаг пароходного общества: он представитель крупного страхового общества, у него контора транспортного общества, он агент пароходной компании.
Лавочка у него осталась – целый магазин! Но в ней торгуют приказчики, а он только наблюдает хозяйским оком.
За сигарой он беседовал со мной о компании каменноугольных копей и о компании для эксплуатации рыбных промыслов – двух крупных компаниях, которые он затевает.
Ландсберг кончил поселенчество и крестьянство. Теперь он мещанин города Владивостока, ездит от времени до времени за границу, в Японию, – мог бы, если бы захотел, вернуться в Россию, но живет на Сахалине, в комфортабельном домике, из окон которого открывается вид на пали кандальной тюрьмы…
Ландсберг женат на очень милой женщине, акушерке, приехавшей служить на Сахалин.
И трудно отыскать более нежную пару. Бог весть, нашел бы он в России такое же семейное счастье, какое отыскал на Сахалине.
Так странно смотреть на этих двух людей.
Словно крепко охватившие друг друга, спасшиеся после кораблекрушения.
II
В кают-компании парохода «Ярославль» было шумно и накурено. Пароход пришел в ночь, и теперь, ранним утром, кают-компания была полна служащими, явившимися принимать привезенных арестантов. Целая коллекция гоголевских типов! Капитан по очереди знакомил меня со всеми. И когда очередь дошла до сидевшего за столом, что-то очень весело и оживленно рассказывавшего человека, сказал:
– Карл Христофорович Ландсберг.
В поданной мне руке я почувствовал согнутый мизинец. И это прикосновение подействовало на меня, как электрический ток.
Этот мизинец был одной из улик против Ландсберга. Он порезал его, когда резал Власова.
– Я очень рад с вами познакомиться. Губернатор говорил мне, что вы прислали ему телеграмму.
Он говорил очень приятным голосом, в котором звучала любезность.
Высокий, красивый и представительный господин, в усах, с сединой в волосах, но моложавый. Ландсбергу теперь, вероятно, под пятьдесят, но на вид гораздо меньше. Он сохранил моложавое лицо и почти юношески стройную фигуру. Он – сама предупредительность. Быть может, он даже слишком предупредителен, – в нем есть что-то заискивающее; он никогда не говорит иначе, как с любезнейшей улыбкой.
Но когда, пожимая друг другу руки, мы встретились глазами, мне показалось, что я словно нечаянно дотронулся до холодной стали.
Смеется он или рассказывает что-нибудь для него тяжелое, оживлено у него лицо или нет, – у него играет только одно лицо. Серые, светлые глаза остаются одними и теми же, холодными, спокойными, стальными. И вы никак не отделаетесь от мысли, что у Ландсберга такими же холодными и спокойными глаза оставались всегда.
– Тяжелые глаза! – замечали и служащие всякий раз, как разговор заходил о Ландсберге.
– Вы на глаза-то посмотрите! – со злобой говорили не любящие Ландсберга каторжане и поселенцы. – Смотрит на тебя, и словно ты для него не человек.
Пароход привез Ландсбергу для лавочки конфеты и печенье, и Ландсберг, обмениваясь любезными шуточками с господами служащими, очень ловко на пристани укладывал этот воздушный товар, словно подарки вез на именины. Такое странное впечатление производил этот торговец с красивыми, элегантными движениями.
Попрощавшись со всеми, он сел в собственный экипаж и приказал кучеру:
– Пошел!
– Куда прикажете, барин? – спросил кучер из поселенцев.
– Домой!
Ландсберг еще раз с любезнейшей улыбкой раскланялся со всеми, крикнул начальнику округа:
– Так я вас жду сегодня вечерком. Новые ноты с пароходом пришли. Жена нам на пианино сыграет.
И экипаж поскакал.
– А кучер-то у него, как и он, за убийство с целью грабежа прислан! – сказал мне начальник округа. – У нас, батенька, тут много удивительных вещей увидите!
Ландсберг сохранил свой великолепный французский язык и давится, как все сахалинцы, на слове «каторга».
– Когда я был еще… рабочим! – говорит он, слегка краснеет и опускает глаза.
Мы с ним никогда не называли Сахалина по имени, а говорили:
– Этот остров.
Ландсберг через 25 лет тюрьмы и каторги пронес невредимыми свои изящные «гостиные» манеры, но есть нечто поселенческое в той торопливости, с которой он сдергивает с головы шляпу, если неожиданно слышит:
– Здравствуйте!