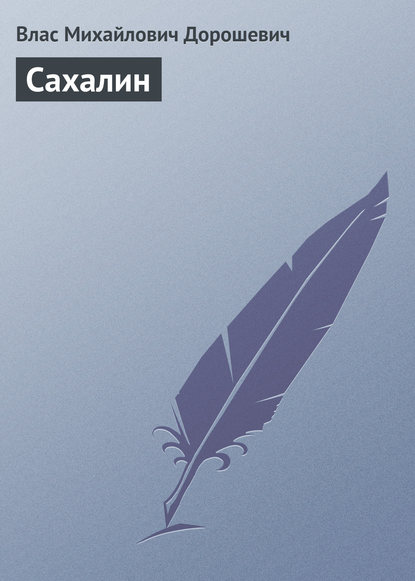По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сахалин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Старик едва сдерживался от слез. Долго молчал, пока собрался с силами продолжать.
– Могутный был старик. Смеялся когда: «Мне бы, – говорит, – опять жениться, и то впору». Померла Марья, повдовствовал я, и пришла пора Николушку женить. Невесту ему взяли из хорошего дома. Скромная была девушка, хорошая. И что ж вы думаете, он задумал? Не пес?
Старик даже сплюнул с омерзением. Руки у него дрожали, голова ходуном ходила:
– Не пес? Смотрю, в город поехал, гостинцев всем навез, а Насте отдельно: «Это, – говорит, – тебе, умница. Почитай дедушку!» Смотрю – плачет Настя. «С чего?» – спрашиваю. – «Так!» – говорит. А сама разливается. Смотрю, куда Настя, туда и он плетется. Вижу я, он и насчет Насти свое удумал. Страх и ужас, судари мои, меня взял. Голова кругом пошла. «Что же это, – думаю, – я всю жизнь промучился, теперь Николушке моему также мучиться? Когда ж этому конец будет?» Вижу, дальше да больше подбирается к Настюшке. Тут я Николушке и открылся: все ему и рассказал, что с его матерью было. Трясся Николушка, плакал. «Слухом-то, – говорит, – я про наш дом это слыхал. А только не верил». – «Теперь, – говорю, – нечего уж об этом тужить. Надо за Настюшкой следить!» Думали, думали: что делать? Хотели делиться. Куда тебе! «Ишь, – говорит, – что надумали! Я тебя, дармоеда, – это на Николушку-то, – кормил, поил, а ты этаку ко мне благодарность? Этаку работницу из дома уводить? Это я, – говорит, – знаю, чьи все штуки! Это он тебя, старый хрен, – это на меня-то, – учить. Все хочется по своей волюшке, своим умом пожить. Смотри, – говорит, – старик, не пришлось бы в кусочники под старость лет за твои штуки пойти, ежели не угомонишься! А на раздел нет моего благословения. Покеда не помру – дома не нарушу!» Видим, одно остается – следить, чтобы чего не случилось, не попустить. И пошли мы за ним везде следом. Жнитво было. Настюшка жала так отдельно, полосочку в яру. Небольшой этакий яр был, ложбиночка. Там она и жала. Прихожу я домой. «Где батюшка?» – спрашиваю. – «Ушел!» – говорят. Так у меня и екнуло. Я к Николушке: «А ну-ка, мол, Николушка, пройдем к ярику. Неладно что-то, родитель из дому ушел». Побегли мы к ярику. Прибегаем, а он Настюшку-то борет. Волосья у нее растрепаны, рубаха, – в одной рубахе у нас жнут, жарко, – рубаха разодрана. Отбивается Настюшка. А он ее цапает. Вырвалась от него, бежать бросилась, а он схватил, тут, на меже, валялась коряжина, да за ней с коряжиной. «Добром, – говорит, – лучше!» Тут мы и выбегли. «Стой!» – кричим. Увидал он нас, затрясся, озлился. «Вы, – кричит, – черти, тут что?» Свету я не взвидел: Настюшка стоит в драной рубахе – срамота! Подхожу: «Не дело, – говорю, – старик, надумал, не дело!» А он на меня: «А, – говорит, – опять ты, старый черт, меня учить? Всю жизнь учил, и теперь учить будешь? Вон, – говорит, – из моего дома! Пусть Николка с Настасьей остаются. А ты с глаз моих долой! Довольно мне тебя кормить, дармоеда!» – «Ну, уж нет, – говорю, – старик, будет! Это тебе не Марья!» А сам все к нему ближе да ближе. Еще пуще взбесился: «Что ты, – кричит, – мне Марьей своей в глаза все тычешь? Велика невидаль! Потаскуха была твоя Марья. Со всей деревней путалась! Вон!» – кричит. Да коряжкой-то на меня и замахнулся. Не помню уж я, как случилось. Выхватил коряжину у него из рук да по голове его. Он и присел. А я на него – да за глотку. Помню только, что трясся весь. И уж так-то он мне был противен, так гадок. «Пришел, – говорю, – старик, твой час!» – «Алеша, – говорит, – не буду!» – «Раньше, – говорю, – старик, об этом бы подумать». Да и стиснул ему глотку… Стиснул – и держу. Держу – и сам ничего не вижу, не понимаю. Уж тогда очнулся, Николушка меня за руку трясет: «Тятенька, – говорит, – вы дедушку задушили». – «Туда ему и дорога! – говорю. – Грешник». Так-то, господа, дело все было…
– Ну, а присяжным, старик, ты все это рассказал?
– Нет, зачем же-с. Да я и не в сознании судился.
– Почему же не сознался, не рассказал всего?
– Да как вам сказать? Первое, что, мол, свидетелей не было. «Не я, да не я». А второе – боялся Николушку с Настей запутать. Люди молодые, им жить, а мое дело стариковское. А потом… что ж этакий срам-то на люди выносить…
– Ну, а сын твой никакого участия в этом не принимал?
– В этом, что я сделал? Нет-с. Видеть – видел, а убивал я один. Мне таить нечего. Теперь уж все одно. Сказал бы, если б это было. Все равно. Они уж померли. Вскоре, как меня засудили, Николушка помер, а за ним и Настасья… Все свое отмаялись и померли, один только я остался и маюсь!.. – улыбнулся старик своей грустной и виноватой улыбкой. – Маюсь да за Марьину душу молюсь. Может, хоть там ей хорошо будет. А здесь что!.. Безответная была – мученица…
Шкандыба
Вечному каторжнику Шкандыбе 64 года. Это рослый, крепкий, здоровый старик.
Шкандыба – сахалинская знаменитость. Его все знают.
Шкандыба отбыл 24 года «чистой каторги» и ни разу не притронулся ни к какой работе.
– Вот те и приговор к каторжным работам! – похохатывает он.
Его драли месяцами каждый день, чтобы заставить работать. Ни за что!
Сколько плетей, сколько розог получил этот человек!
Когда он, по моей просьбе, разделся – нельзя было без содрогания смотреть на этот сплошной шрам. Все тело его словно выжжено каленым железом.
– Я весь человек поротый! – говорит сам про себя Шкандыба. – Булавки, брат, в непоротое место не запустишь: везде порото. Вы извольте посмотреть, я суконочкой потру. Где потереть прикажете?
Потрет суконкой там, где укажут, и на теле выступают крест-накрест полосы – следы розог.
– Человек клетчатый! Кожа с рисунком. Я кругом драный.
С обеих сторон. Чисто вот пятачок фальшивый, что у нас для орлянки делают. С обеих сторон орел. Как ни брось, все орел будет! И с одной стороны орел и с другой – орел. Так вот и я.
– Как же так, с обеих сторон драный?
– А так-с. Господин смотритель на меня уж очень осерчал: зачем работать на хочу. «Так я ж тебя!» – говорит. Драл, драл, не по чем драть стало. «Перевернуть, – говорит, – его, подлеца, на лицевую сторону». Чудно! По животу секли, по грудям секли, по ногам. Такого даже и дранья-то никто не выдумывал. Уморушка! Шпанка, так та со смеху дохла, когда я этак-то на «кобыле» лежал. Необыкновенно.
– А работать все-таки не пошел?
– Нашли дурака!
Шкандыба по профессии мясник. В первый раз был приговорен на 12 лет за ограбление церкви и убийство. Затем бежал, попался, и в конце концов «достукался до вечной каторги».
Сначала его отправили на Кару, на золотые прииски. Это были страшные времена. В разрезе, где работали каторжане, всегда наготове стояла «кобыла». При каждом разрезе был свой палач, дежуривший весь день.
Шкандыбу привели на работу. Он решительно отказался.
– Что это? Землю копать? Не стану!
– Как не станешь?
– А так. Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.
Шкандыбе в первый день дали 25 плетей.
Во второй – 50.
В третий – 100 и чуть живого отнесли в лазарет.
Выздоровел, привели – опять то же:
– Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.
Опять принялись драть – опять отправили в лазарет.
Наконец устали – прямо-таки устали – биться со Шкандыбой и отправили его на Сахалин.
На Сахалине Шкандыба прямо заявил:
– Работать не буду. И не заставляйте лучше.
– Ну так драть будем!
– С полным моим удовольствием. Ваше полное право. А работать вы меня заставить не можете.
Шкандыбу переводили из тюрьмы в тюрьму, от смотрителя к смотрителю, всякий раньше хвалился:
– Ну, у меня не то запоет!
И всякий потом опускал руки.
Один из самых ретивых смотрителей, К., рассказывал мне:
– Да вы понятия иметь не можете, что это за человек. Взялся я за него. Каждый день тридцать розог. Да ведь каких! Порция. Прихожу утром на раскомандировку. «Кобыла» стоит, палач, розги. Вместо «здравствуйте!» – первый вопрос: «Шкандыба, на работу идешь?» – «Никак нет!» – «Драть!» Идет и ложится. До чего ведь, подлец, дошел. Только прихожу, еще спросить не успею, а он уже к «кобыле» идет и ложится. Плюнул!
Другой смотритель, тоже ретивый, которому давали Шкандыбу на укрощение, говорил мне:
– Одно время думали, может, он какой особенный, к боли нечувствительный. Доктору давали исследовать. «Нет, – говорит, – ничего, чувствительный». Драть, значит, можно.