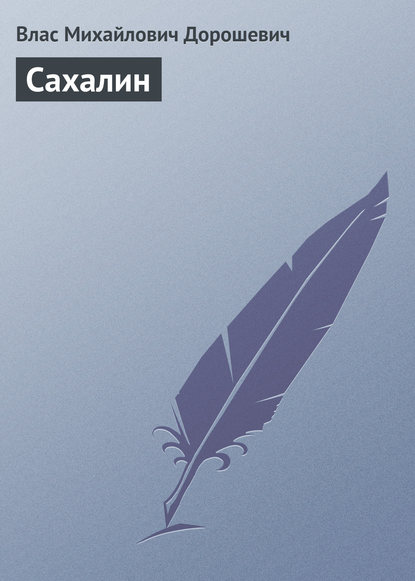По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сахалин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А то что ж! С голоду, что ль, на воле пухнуть? – отвечал один из убийц.
Другой шел следом за ним и ругался:
– Ну, порядки!
– Ну-с, идем на место совершения преступления.
У избы, где было совершено убийство, стояли сторожа из поселенцев. Но вытащено было действительно все. В избе ни ложки, ни плошки. Все вычищено.
– Ох, достанется вам! – погрозился на сторожей смотритель поселений.
– Дозвольте объяснить, за что, ваше высокоблагородие? Помилте, нешто может что у поселенца существовать? Гол, да и только. Опять же, как спервоначалу народ сбежался, сторожей еще приставлено не было; известно, чужое добро, всяк норовит что стащить!
Избенка была маленькая, конечно, без всяких служб, покривившаяся, покосившаяся, наскоро сколоченная, как наскоро, «для проформы», сколачиваются на Сахалине обязательные «домообзаводства».
Воняло, пол был липкий, сырой, на скамьях были зеленые пятна. Всюду не высохшая еще кровь.
В углу маленькая печурка, около которой еще стояла лужа крови. Устье – крохотное.
– Ведь это им до вечера пришлось бы жечь! – сказал начальник поселений, заглядывая в печку.
– Так точно, ваше высокоблагородие, одну руку только обжечь успели. Так обуглилась еще только! – подтвердил надзиратель. – Беспременно бы весь день жгли.
– Не оголтелость, я вас спрашиваю? Не оголтелость? – в ужасе взывал смотритель поселений. – Пиши протокол осмотра!
Интеллигент
– Позвольте-с! Позвольте-с! Господин, позвольте-с, – догнал меня в Дербинском пьяный человек, оборванный, грязный до невероятия, с синяком под глазом, разбитой и опухшей губой. Шагов на пять от него разило перегаром. Он заградил мне дорогу.
– Господин писатель, позвольте-с. Потому как вы теперь материалов ищете и биографии ссыльнокаторжных пишете, так ведь мою биографию, плакать надо, ежели слушать. Вы нравственные обязательства, дозвольте вас спросить, признаете? Очень приятно! Но раз вы признаете нравственные обязательства, вы обязаны меня удостоить беседой и все прочее. Ведь это-с человеческий документ, так сказать, перед вами. Землемер. Мы ведь тоже что-нибудь понимаем. Парлэ ву франсэ? Вуй? И я. Я еще, может быть, когда вы клопом были, в народ ходил-с. И вдруг ссыльнокаторжный! Позвольте, каким манером? И всякий меня выпороть может. Справедливо-с?
– Да вы за что же сюда-то попали?
– Вот в этом-то и дело. Это вы и должны прочувствовать. «Не убий», – говорят. А что я должен делать, если я свою жену, любимую, любимую, – он заколотил себя кулаком в грудь, и из глаз его полились пьяные слезы, – любимую, понимаете ли, жену с любовником на месте самого преступления застал. По французскому закону, «туэ-ля!» – и кончено дело. Позвольте-с, это на театре представляют, великий серцевед Шекспир и Отелло, венецианский мавр, и вся публика рукоплещет, а меня в каторгу. В каторгу? Где же справедливость, я вас спрашиваю? И вдруг меня сейчас на «кобылу»: зачем фальшивые ассигнации делаешь?
– Позвольте, да вас за что же сюда сослали: за убийство жены или за фальшивые ассигнации?
– В этом-то все и дело. Жена сначала, а ассигнации потом. Ассигнации, это уж с отчаяния. Позвольте-с! Как же мне ассигнации не делать? А позвольте вас спросить, с чего я водку буду пить, без ассигнаций ежели? Должен я водку пить при такой биографии или нет? Я должен водку беспременно пить, потому что у меня рука срывается. Вы понимаете, срывается! Сейчас я хочу веревку за гвоздь, и рука срывается.
– Да зачем же вам веревку за гвоздь?
– Удавиться. Я должен удавиться, и у меня рука срывается. Я говорю себе: «Подлец!» – и должен сейчас водку пить.
Потому я в белой горячке должен быть. Вы понимаете белую горячку? Delirium tremens! Как интеллигентный человек! Потому сейчас самоанализ и все прочее. У меня самоанализ, а меня на «кобылу». Может мне смотритель сказать, что такое Бокль, и что такое цивилизация, и что такое Англия? Я «Историю цивилизации Англии» читал, а меня на «кобылу». Я Достоевским хотел быть! Достоевским! Я в каторге свою миссию видел. Да-с! Я записки хотел писать. И все разорвано. А почему разорвано? От смирения духом. Я сейчас себя посланником от ее величества госпожи цивилизации счел, и в пароходном трюме безграмотному народу бесплатно прошения стал писать. И вдруг меня убить хотят! Потому что какой-то бродяга Иван, обратник, им сейчас прошения к министру финансов и к петербургскому митрополиту о пересмотре дела пишет, а по рублю за прошение берет, а я отказываюсь, потому что глупо. Глупо и невежественно. «Ах, говорят, ты так-то. Ты народ губить? Куда следует прошения писать не хочешь? Иван к митрополиту, а ты не желаешь?» И Иван сейчас науськивает, потому что практику отбиваю. «Бей его! Бей насмерть! Он нарочно куда следует прошений не пишет. С начальством заодно. Он себе в бумаги вписывает, и как водку пьем, и как в карты играем, чтобы потом начальству все открыть». И вдруг мне ночью накрывают темную, и хотят убить, и записки мои рвут, и потом начальству говорят всем трюмом: «Он ворует». А пароходный капитан: «Я тебя выпорю!» – говорит. Позвольте-с! Вы можете знать, о чем я думаю? Я сейчас здесь, в трюме, сижу, мне темную делают, а мой оскорбитель на суде в перстнях является, и невеста в публике. И его сейчас дамы лорнируют. И он благородного рыцаря играет. «Ничего, – говорит, – подобного!» Разве можно в своих связях с порядочной женщиной признаваться? Бла-ародно! И вся публика говорит: «Бла-ародно!» Позвольте-с. И он сейчас свой очаг имеет, и жену, и неприкосновенным очаг считает. Свой-то, свой. А мой осквернил? И ничего? Его не в каторгу, а меня в каторгу? Справедливо-с? Году покойнице не вышло, и у него невеста. Год бы, подлец, подождал! Плачу-с! Плачу – и не стыжусь! И опять ложный донос напишу и стыдиться не буду. И опять! Что, господин смотритель поселений вам жаловался, что я ложный донос на него написал? Верно! И опять напишу, потому что двадцать копеек. Желаете, вам ложный донос напишу? На кого желаете? Двадцать копеек – и донос! И дерите! Дерите! Желаете драть – дерите! Он начал расстегиваться.
– Постойте, постойте, Бог с вами! Опомнитесь!
– Не желаете? Не надо. А может быть, господин свободного состояния, желаете? Так дерите! Не желаете? Упрашивать не буду, потому что лишенный всех прав состояния. Да вы образования меня лишить можете? Духа моего интеллигентного лишить можете? Разве он меня порет? Всех порет, кто во мне заключается. С Боклем, и со Спенсером, и с Шекспиром на «кобылу» ложусь, и с Боклем, и со Спенсером, и с Шекспиром меня смотритель порет! С Боклем! И вдруг предписание: «Переслать его с попутным быком в селенье Дербинское». И я с быком. Как я должен с быком разговаривать? Как с товарищем? Он, значит, скот, и я, значит, скот! Лишить прав можете, но ведь не до такой же степени! С быком. И на «кобылу», и розгами, розгами. Встала бы покойница, посмотрела бы. Ах, как бы ручками всплеснула! В перчаточках! «Ах, кель-оррэр, дерут его как сидорову козу. Ах, как просто!» Это у нее любимое слово было: «Просто». «Ах, – скажет, – это платье. Это просто как-то». Мужу изменять, – а его дерут, дерут! А? Какому мужу? Ко дню ангела браслет подарил.
Он вдруг заорал благим матом:
– Сапфиры! Брильянты! Голконда! Горел!
И заплакал.
– На службе завтракать бросил. Курить перестал. Год копил целый. Копейку к копейке. Все по частям в магазин носил: «Не продавайте!» Дома зимой в кителе ходил, чтобы сюртук не носился. По той же причине в комнатах снимал сапоги и ходил в туфлях. Казначею задолжал. И принес! В самый день ангела. Раньше встал – и на цыпочках. И на ночном столике. Раскрыл и поставил. И штору отдернул, чтобы луч солнца. Игра! Сижу жду: что будет? Не дышу. И начала жмуриться, и глаза открыла, и вдруг крик: «А-а!»
Он схватился за голову, и на лице его отразилась мука жесточайшая.
– И в этом же браслете застал! И все кругом столько лет смеялись, только я один, дуралей, серьезный был. Ха-ха-ха! Так вот же вам! Я один хохотать буду, а вы все кругом будете в ужасе. И вдруг должен писать прошение за безграмотством поселенца такого-то; прошу выдать для нужды домообзаводства из казны корову и бабу. А! Корову и бабу. Бабу и корову. А я сотворил себе кумир. Что есть женщина? Генрих Гейне сказал: «Бог создал ее в минуту вдохновенья!» Жрать не надо, – чулочки ей шелковые, чтобы любовнику приятнее ноги целовать было. Женщине ведь непременно ноги целовать надо! На коленях перед ней! На полу! На земле перед ней! В прах! А тут корова и баба. Дайте мне двадцать копеек… Что такое? Рубль? Благородно. Понимаю. Истинно. Все, значит, как есть, понял: в каторгу – и рубль ему, и совесть чиста. Руку! Как интеллигент интеллигенту говорю: спасибо. Просто и кратко! Спасибо.
Поэты-убийцы
I
Пащенко – это его бродяжеское имя – был ужасом всего Сахалина.
Когда Пащенко убили, этому обрадовалась прежде всего каторга.
За Пащенко числилось 32 убийства.
Он многократно бегал, и когда его нужно было «уличать», сообщая из Одессы на Сахалин приметы Пащенко, написавшие начальники тюрем и надзиратели добавляли:
– Только не говорите Пащенко, что сведения сообщили мы.
Придет и убьет.
Таково было страшное обаяние его имени.
Среди всех кандальников Александровской тюрьмы Пащенко нашел себе только одного «человека по душе», такого же тачечника, то есть приговоренного к прикованью к тачке, как и он, Широколобова.
Широколобов – второй ужас всего Сахалина и Восточной Сибири. Кандальные сторонились от него как от зверя.
Широколобов был сослан из Восточной Сибири за многочисленные убийства.
Широколобов – сын каторжных родителей, сосланных за убийства и поженившихся на каторге. Перед вами тупое и действительно зверское лицо.
Он попался на убийстве вдовы-дьяконицы. Желая узнать, где спрятаны деньги, Широколобов пытал свою жертву. Отрезал ей уши, нос, медленно, по кусочкам, резал груди. Широколобова привезли на Сахалин на пароходе «Байкал» прикованным железным обручем за пояс к мачте.
Это был единственный человек, с которым нашел возможным подружиться в тюрьме Пащенко. Вместе они и отковались от тачек и совершили побег, разломав в тюрьме печку.
Они ушли в ближайший рудник и скрылись там. Каторжане и поселенцы должны были таскать им туда пищу.
Должны были, потому что иначе Пащенко и Широколобов вышли бы и натворили ужасов.
Но их местопребывание было открыто.
На дереве, около входа в одну из штолен, почему-то болталась тряпка. Это показалось странным начальству. Не примета ли? Была устроена облава, но предупрежденные Пащенко и Широколобов ушли и перебрались в дальний Владимирский рудник.