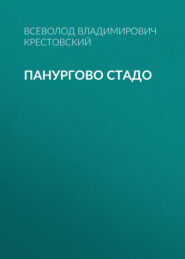По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петербургские трущобы. Том 1
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что ты врешь? какую корзинку?
– От бельгийского консула… приказали кланяться и отдать вашему сиятельству.
– От какого бельгийского консула? – в недоумении допытывал князь, протирая заспанные глаза. – Что это, ты пьян, что ли?
– Никак нет, ваше сиятельство, а только я докладываю, что от бельгийского консула… бог милостью посетил… корзинка с цветами…
Князь Шадурский глядел во все глаза на своего камердинера и только пожимал плечами.
– Да объяснись ты, братец, по-человечески. В чем дело?
– Младенец-с…
– Какой младенец?
– Надо полагать, подкидыш… В корзинке этой самой положен… Мы без вашего сиятельства не осмелились…
– А!.. – произнес князь Шадурский, и личные мускулы его как-то кисло передернуло от заметного неудовольствия. Князь понимал и догадывался о том, чего не понимал и не мог догадаться его камердинер.
– Княгиня знает? – торопливо и озабоченно спросил он, подымаясь с постели.
– Мамзель Фани пошла докладывать их сиятельству.
– А!.. – и лицо князя опять передернуло.
Когда камеристка доложила о случившемся княгине, то княгиня ничего не сказала ей на это, и только как-то саркастически и коварно улыбнулась, но так легко, что эту улыбку почти невозможно было подметить… Казалось, что княгиня, подобно князю, понимала и догадывалась о том, чего не понимала ее горничная, и нельзя сказать, чтоб супруги остались особенно довольны посетившей их божией милостью.
– Поздравляю вас, князь, с приращением вашего семейства, – сказала княгиня при входе мужа в ее будуар, и сказала это так мило и любезно, что все колкие шпильки произнесенной ею фразы показались Шадурскому втрое колючее, так что он, закусив от досады нижнюю губу, процедил ей в ответ сквозь зубы весьма сухим и холодным тоном:
– Мне кажется, что это относится столько же и к вам, сколько ко мне… Корзинка прислана на наше общее имя.
– Я, по крайней мере, нисколько не виновата в этом, – столь же колко и как бы про себя заметила княгиня.
Шадурский пристально и сухо посмотрел ей прямо в глаза.
– В этом – да, нисколько! но в другом… – произнес князь с немалою выразительностью и остановился.
– В чем другом? – с живостью перебила его жена, – в чем?..
– Вы сами очень хорошо понимаете, о чем я говорю; так не заставляйте же меня хоть ради приличия называть вещи настоящими их именами! – сказал, он, не сводя глаз с лица жены, и потом добавил: – Пять месяцев назад меня не было в Петербурге… Да, потом, вы очень хорошо должны помнить, что три месяца я один без вас прожил в деревне.
Княгиня смутилась и покраснела. Теперь ей, в свою очередь, пришлось глотать мужнины шпильки. Она сидела на каленых угольях и, видимо, искала случая дать другое направление разговору.
– А где же корзинка однако? что это ее не несут? – сказала она, озабоченно поднимаясь с места.
Корзинка была внесена камеристкою в комнату. Княгиня сама развязала узлы розовой ленты и приподняла лист белой бумаги.
Все втроем с любопытством наклонились над корзинкою. Там, среди цветов, лежала девочка, родившаяся, по-видимому, дня два-три назад. На ней были надеты сорочка тончайшего батиста и чепчик, отороченный настоящими кружевами. Лежала она, со всех сторон, как пухом, обложенная белою и теплою ватой. При ней находилась записка, весьма лаконического содержания: «Родилась второго мая. Еще не крещена», – и только. Склон букв ложился в левую сторону, очевидно, для того, чтоб нельзя было узнать, чья рука писала записку. По всей обстановке этой корзинки можно было предположить, что дитя принадлежало не совсем бедной матери и что, значит, не голод и нищета, а другие, неизвестные причины заставили ее расстаться с своим ребенком.
Подкидыш немедленно же был сдан на руки камеристке, до приискания ему более определенного положения, и унесен из будуара княгини, которая опять осталась с глазу на глаз со своим мужем. Несколько времени оба молчали. Видно было, что и тот и другая крепко задумались о чем-то в эту критическую минуту.
Княгиня первая прервала неловкое молчание.
– Что же вы намерены делать с этим ребенком? – спросила она. – Ведь, кажется, надо объявить, что ли, кому-то об этом.
– Вздор!.. Никому ничего объявлять не надо, а надо просто… – и князь опять остановился и задумался.
– Что же надо? – переспросила его жена.
– Надо нам объясниться с вами! – наконец выговорил он, собравшись с силами.
– Извольте; я готова…
– Дело вот в чем, – начал князь, как бы приискивая более удобные, подходящие выражения, – дело вот в чем: у нас с вами, княгиня, есть наш собственный сын и наследник моего имени – князь Владимир Шадурский, и потому… я не желаю, чтобы в доме нашем находились и воспитывались, рядом с нашим сыном, какие бы то ни было посторонние дети. Вполне ли вы меня понимаете? – спросил он, придавая как бы особенное значение этому последнему вопросу.
Княгиня потупила глаза и утвердительно кивнула головою.
– Не угодно ли вам будет отправиться за границу? – как бы неожиданно и бесцельно спросил он.
– Пожалуй… я подумаю…
– То-то, подумайте… А об участи этого подкидыша вы не беспокойтесь, – добавил он, вставая и выходя из комнаты. – Я сделаю для него все, что могу.
II
МАТЬ
Проскакав по выбоинам петербургской мостовой со всею возможною скоростью, на какую только способна полузаморенная извозчичья кляча, дрожки повернули в более глухую часть города и остановились в малолюдном Свечном переулке, перед небольшим деревянным домом. Сидевшая в них женщина поспешно и не разбирая сунула в руку извозчика какую-то ассигнацию, причем тот не преминул ввернуть обычное: «Маловато!.. на чаек бы надо». Еще поспешнее соскочила она с дрожек и, тревожно оглядываясь назад и по сторонам – словно боясь погони, – скрылась в низенькой калитке деревянного дома.
Пробежав через дворик по настланным, ради грязи, доскам, она остановилась у небольшого флигелька, на стене которого была прибита скромная вывеска с надписью: «Hebamme – повивальная бабка», и осторожно постучалась в дверь. К ней вышла женщина чистоплотно-немецкой наружности, в белом чепце и любопытно, чуть не к самому носу, подставила ей, с вопросом, свою востренькую физиономию.
– Что, спит?.. Можно войти? – шепотом спросила ее приехавшая, хотя этот шепот ровно ни к чему не был тут нужен.
– Нет, не спит, все вас дожидается, – отвечала ей, также шепотом, немка. – Слава богу, что скоро приехали, а то я уже за нее боялась: очень много уж она беспокоилась…
Отворив осторожно дверь, женщина на цыпочках вошла в темную комнату больной. При виде ее больная с нетерпением приподнялась на подушках и с жадным ожиданием, пытливо вперила в нее свои черные, выразительные глаза.
– Ну что, Наташа? – с замиранием сердца спросила она. – Снесла?
– Ничего, слава богу, все хорошо… ничего… Снесла и отдала.
– Взяли они? – с возрастающим нетерпением допрашивала больная.
– Надо полагать, что взяли… Не выкинуть же младенца на улицу, – как-то деревянно рассудила в успокоительном тоне Наташа.
– Слава тебе господи! – с восторгом прошептала больная, и слезы закапали из ее прекрасных глаз.
– Что же вы плачете? Ведь все, слава тебе господи, удалось как не надо быть лучше! – утешала ее, между тем, Наташа, стараясь показать участие, в котором, однако, более проницательный человек мог бы подметить все ту же деревянную подкладку не то что равнодушия, а какого-то скрытого недоброжелательства.
– От бельгийского консула… приказали кланяться и отдать вашему сиятельству.
– От какого бельгийского консула? – в недоумении допытывал князь, протирая заспанные глаза. – Что это, ты пьян, что ли?
– Никак нет, ваше сиятельство, а только я докладываю, что от бельгийского консула… бог милостью посетил… корзинка с цветами…
Князь Шадурский глядел во все глаза на своего камердинера и только пожимал плечами.
– Да объяснись ты, братец, по-человечески. В чем дело?
– Младенец-с…
– Какой младенец?
– Надо полагать, подкидыш… В корзинке этой самой положен… Мы без вашего сиятельства не осмелились…
– А!.. – произнес князь Шадурский, и личные мускулы его как-то кисло передернуло от заметного неудовольствия. Князь понимал и догадывался о том, чего не понимал и не мог догадаться его камердинер.
– Княгиня знает? – торопливо и озабоченно спросил он, подымаясь с постели.
– Мамзель Фани пошла докладывать их сиятельству.
– А!.. – и лицо князя опять передернуло.
Когда камеристка доложила о случившемся княгине, то княгиня ничего не сказала ей на это, и только как-то саркастически и коварно улыбнулась, но так легко, что эту улыбку почти невозможно было подметить… Казалось, что княгиня, подобно князю, понимала и догадывалась о том, чего не понимала ее горничная, и нельзя сказать, чтоб супруги остались особенно довольны посетившей их божией милостью.
– Поздравляю вас, князь, с приращением вашего семейства, – сказала княгиня при входе мужа в ее будуар, и сказала это так мило и любезно, что все колкие шпильки произнесенной ею фразы показались Шадурскому втрое колючее, так что он, закусив от досады нижнюю губу, процедил ей в ответ сквозь зубы весьма сухим и холодным тоном:
– Мне кажется, что это относится столько же и к вам, сколько ко мне… Корзинка прислана на наше общее имя.
– Я, по крайней мере, нисколько не виновата в этом, – столь же колко и как бы про себя заметила княгиня.
Шадурский пристально и сухо посмотрел ей прямо в глаза.
– В этом – да, нисколько! но в другом… – произнес князь с немалою выразительностью и остановился.
– В чем другом? – с живостью перебила его жена, – в чем?..
– Вы сами очень хорошо понимаете, о чем я говорю; так не заставляйте же меня хоть ради приличия называть вещи настоящими их именами! – сказал, он, не сводя глаз с лица жены, и потом добавил: – Пять месяцев назад меня не было в Петербурге… Да, потом, вы очень хорошо должны помнить, что три месяца я один без вас прожил в деревне.
Княгиня смутилась и покраснела. Теперь ей, в свою очередь, пришлось глотать мужнины шпильки. Она сидела на каленых угольях и, видимо, искала случая дать другое направление разговору.
– А где же корзинка однако? что это ее не несут? – сказала она, озабоченно поднимаясь с места.
Корзинка была внесена камеристкою в комнату. Княгиня сама развязала узлы розовой ленты и приподняла лист белой бумаги.
Все втроем с любопытством наклонились над корзинкою. Там, среди цветов, лежала девочка, родившаяся, по-видимому, дня два-три назад. На ней были надеты сорочка тончайшего батиста и чепчик, отороченный настоящими кружевами. Лежала она, со всех сторон, как пухом, обложенная белою и теплою ватой. При ней находилась записка, весьма лаконического содержания: «Родилась второго мая. Еще не крещена», – и только. Склон букв ложился в левую сторону, очевидно, для того, чтоб нельзя было узнать, чья рука писала записку. По всей обстановке этой корзинки можно было предположить, что дитя принадлежало не совсем бедной матери и что, значит, не голод и нищета, а другие, неизвестные причины заставили ее расстаться с своим ребенком.
Подкидыш немедленно же был сдан на руки камеристке, до приискания ему более определенного положения, и унесен из будуара княгини, которая опять осталась с глазу на глаз со своим мужем. Несколько времени оба молчали. Видно было, что и тот и другая крепко задумались о чем-то в эту критическую минуту.
Княгиня первая прервала неловкое молчание.
– Что же вы намерены делать с этим ребенком? – спросила она. – Ведь, кажется, надо объявить, что ли, кому-то об этом.
– Вздор!.. Никому ничего объявлять не надо, а надо просто… – и князь опять остановился и задумался.
– Что же надо? – переспросила его жена.
– Надо нам объясниться с вами! – наконец выговорил он, собравшись с силами.
– Извольте; я готова…
– Дело вот в чем, – начал князь, как бы приискивая более удобные, подходящие выражения, – дело вот в чем: у нас с вами, княгиня, есть наш собственный сын и наследник моего имени – князь Владимир Шадурский, и потому… я не желаю, чтобы в доме нашем находились и воспитывались, рядом с нашим сыном, какие бы то ни было посторонние дети. Вполне ли вы меня понимаете? – спросил он, придавая как бы особенное значение этому последнему вопросу.
Княгиня потупила глаза и утвердительно кивнула головою.
– Не угодно ли вам будет отправиться за границу? – как бы неожиданно и бесцельно спросил он.
– Пожалуй… я подумаю…
– То-то, подумайте… А об участи этого подкидыша вы не беспокойтесь, – добавил он, вставая и выходя из комнаты. – Я сделаю для него все, что могу.
II
МАТЬ
Проскакав по выбоинам петербургской мостовой со всею возможною скоростью, на какую только способна полузаморенная извозчичья кляча, дрожки повернули в более глухую часть города и остановились в малолюдном Свечном переулке, перед небольшим деревянным домом. Сидевшая в них женщина поспешно и не разбирая сунула в руку извозчика какую-то ассигнацию, причем тот не преминул ввернуть обычное: «Маловато!.. на чаек бы надо». Еще поспешнее соскочила она с дрожек и, тревожно оглядываясь назад и по сторонам – словно боясь погони, – скрылась в низенькой калитке деревянного дома.
Пробежав через дворик по настланным, ради грязи, доскам, она остановилась у небольшого флигелька, на стене которого была прибита скромная вывеска с надписью: «Hebamme – повивальная бабка», и осторожно постучалась в дверь. К ней вышла женщина чистоплотно-немецкой наружности, в белом чепце и любопытно, чуть не к самому носу, подставила ей, с вопросом, свою востренькую физиономию.
– Что, спит?.. Можно войти? – шепотом спросила ее приехавшая, хотя этот шепот ровно ни к чему не был тут нужен.
– Нет, не спит, все вас дожидается, – отвечала ей, также шепотом, немка. – Слава богу, что скоро приехали, а то я уже за нее боялась: очень много уж она беспокоилась…
Отворив осторожно дверь, женщина на цыпочках вошла в темную комнату больной. При виде ее больная с нетерпением приподнялась на подушках и с жадным ожиданием, пытливо вперила в нее свои черные, выразительные глаза.
– Ну что, Наташа? – с замиранием сердца спросила она. – Снесла?
– Ничего, слава богу, все хорошо… ничего… Снесла и отдала.
– Взяли они? – с возрастающим нетерпением допрашивала больная.
– Надо полагать, что взяли… Не выкинуть же младенца на улицу, – как-то деревянно рассудила в успокоительном тоне Наташа.
– Слава тебе господи! – с восторгом прошептала больная, и слезы закапали из ее прекрасных глаз.
– Что же вы плачете? Ведь все, слава тебе господи, удалось как не надо быть лучше! – утешала ее, между тем, Наташа, стараясь показать участие, в котором, однако, более проницательный человек мог бы подметить все ту же деревянную подкладку не то что равнодушия, а какого-то скрытого недоброжелательства.