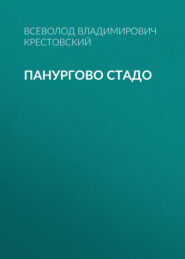По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Петербургские трущобы. Том 1
Серия
Год написания книги
1866
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Затем, что ты должен написать несколько слов, но написать под руку княжны так, чтоб почерк похож был… А что именно нужно писать, это я тебе сейчас же продиктую.
– Ну а потом?
– Потом поторопись достать мне какой-нибудь вид или паспорт, под чужим именем, и свой держи наготове. Да руку-то изучи поскорее. От этого все зависит!
– Трудно. Едва ли сумею… – процедил сквозь зубы Бодлевский, почесав у себя за ухом.
Наташа вспыхнула.
– А любить меня умеешь? – энергично возразила она, вскинув на него сверкающие досадой глаза. – Ты говоришь, что любишь, так сделай, если не лжешь! Бумажки же учишься делать?
Молодой человек в раздумье зашагал по своей конуре.
– А как скоро надо? – спросил он после минутного размышления. – Дня этак через два, что ли?
– Да не позже как через два дня, или все дело пропало! – решительным и уверенным тоном подтвердила девушка. – Через два дня я приду за запиской, и паспорт чтоб был уже готов мне.
– Хорошо, будет сделано, – согласился Бодлевский.
И Наташа стала диктовать ему содержание записки.
Тотчас же по уходе ее гравер принялся за работу.
Весь остальной день и всю ночь напролет прокорпел он над принесенными ею листками, вглядывался в характер почерка, сверял букву с буквой, слово с словом, и над каждым штрихом практиковался самым настойчивым образом, копируя и повторяя его чуть ли не по сту раз, пока наконец достигал желаемой чистоты; он перемарал несколько листов бумаги и самым упорным, что называется, микроскопическим трудом одолевал каждую букву. Он достиг уже того, что изменил свой почерк; оставалось еще придать ему непринужденную легкость и естественность. От натуги кровь бросилась ему в голову, в ушах звенело, и в глазах давно уже рябили зеленые мушки, а он все еще, не разгибая спины, продолжал работать.
Наконец, уже утром, записка была кончена, и под нею подписано имя княжны. Исполнение отличалось истинным мастерством и превзошло даже собственные ожидания Бодлевского. Легкость и чистота отделки были изумительны. Гравер, взглянув на почерк княжны, сличил его со своей работой и сам удивился – до какой степени поразительно было сходство.
И долго после этого любовался он на свое произведение, с тем отрадным отеческим чувством, которое так знакомо творцу-художнику, и лишь здесь-то, над этой запиской, впервые с гордостью сознал в себе истинного артиста.
IX
«ЕРШИ»
– Половина дела сделана! – решил он сам с собою, вскочив с провалившегося дивана после нервно-беспокойного часового полусна.
– Ну а паспорт? Вот тебе и осечка! – озадачился гравер, вспомнив вторую часть непременного поручения Наташи. – Паспорт… Да… осечка… – долго бормотал он в раздумье, опустив голову и уперев худощавые руки в угловатые колена свои. Наконец, перебирая в уме разное возможное и невозможное, подходящее и неподходящее, набрел он случайно на воспоминание об одном земляке, сапожном подмастерье Юзиче, который, по собственному откровенному сознанию в хмельную минуту, «более чувствует охоты к швецам-рукодельникам и к портняжному искусству, чем к сапожному ремеслу»[6 - У воров и мошенников существует своего рода условный знак (argot), известный под именем «музыки» или «байкового языка». Этот язык, между прочим, представляет много интереса и в физиологическом отношении. В нем, кроме необыкновенной образности и лаконической сжатости, отличительных качеств его, заметен сильный наплыв слов, звучащих очевидно неславянскими звуками. Не говоря уже о звуках отчасти польских, отчасти малорусских, вы весьма часто слышите в музыке слова вполне восточного происхождения; иногда попадаются намеки на корни романские и немецкие, хотя и не так часто, как татарские, финские и цыганские. Это смешение объясняется самым составом мошеннического сословия, служащего широким стоком для всех национальностей. Характер московского argot уже несколько разнится от петербургского: в нем менее и даже совсем почти нет звуков нерусских, и только одни татарские допускаются в него, и это точно так же зависит от того, что состав жульнических (мазурнических) обществ в Москве более петербургского носит на себе характер почвенный, российский. Москва как будто везде и во всем старается проводить свои собственные, славяно-московские тенденции. Впоследствии, при выходе в свет всего романа, автор намерен сделать более подробное исследование о байковом языке, с приложением словаря. Читателю неоднократно еще встретится эта музыка, которая иногда потребует не одного только перевода байковых слов на русский язык, но и разъяснения исторического либо даже филологического смысла, заключающегося в них. Пример – чтобы не ходить за ним далеко – заключается в тех самых выражениях, по поводу которых сделана настоящая выноска. Швец на белорусском и малорусском наречии значит – портной. Это еще ничего ровно не объясняет читателю. Швецовым или портняжным искусством называется на байковом языке целая отрасль воровского промысла. Воры и мошенники делятся на категории и градации, смотря по характеру своего промысла, как, например, карманники, комнатные или домашние, паркетники, уличники, скамьевщики (конокрады), ночники – это их общее разделение; за ним следует деление более частное: швецы (по части платья), скорняки (по части мехов), ювелиры (золотые вещи), финажники, сорники или бабочники (ворующие чистые деньги). Нельзя сказать, чтобы воры поименованных категорий строго держались каждый своей специальности. В общем характере своем они без исключения следуют правилу – «не клади плохо», воруя все, что попало под руку, и, таким образом, швец весьма легко может забраться в область финажника, ювелир – в область скорняка или скамьевщика и т. д. Но каждый из них – по душевному ли расположению или по сноровке и умению – какую-нибудь отрасль предпочитает, чувствует к ней более симпатии и, таким образом, зачисляет себя в ювелиры или швецы, стараясь, конечно, более ориентироваться в избранной им специальности.].
Малый, значит, отчасти подходящий и в задуманном деле какие-нибудь лазейки указать может. Он уже с год назад был прогнан от «честного сапожного немца, Окерблюма», за пьянство с буйством и безобразием, да за то еще, что соседнему целовальнику стали уж больно часто «приходиться по нраву» окерблюмовские голенища, подошвы и прочий выростковый и опойковый товар. С тех самых пор Юзич решил, что не следует заниматься таким неблагодарным ремеслом, за которое хозяева выгоняют в шею да еще вором обзывают всеартельно, а лучше-де призаняться искусством свободным – хотя бы на первый случай карманным, а там швецовым или скорняжным, а затем, при дальнейшем развитии, можно и в ювелиры начистоту записаться[7 - Ходить начистоту по музыке – выражение, означающее искусство de lahaut еcole (высшая школа (фр.). – Ред.). «Ходить по музыке» – значит просто воровать; но «на чистоту» заставляет подразумевать в себе ловкость, проворство приемов и опытность.]. И стал он, раб божий, вольною птицею лыжи свои направлять с площади на улицу, с улицы в переулок, из трактира в кабак, из кабака в «заведение», и все больше задними невоскресными ходами[8 - Каждое заведение, будет ли то трактир или питейный дом, имеет непременно два входа: один – с улицы, наружный, показной, над которым, по обычаю, красуется вывеска; другой – черный, непременно со двора, старается (особенно в кабаках) замаскироваться каким-нибудь хламом, вроде порожних пивных ящиков, дров или чего-нибудь подобного. Мазурики эти последние ходы называют невоскресными, то есть непраздничными, непарадными.] норовил, с тех темных, незаметных лесенок, по которым спускается и подымается секрет, то есть свои, темные людишки, кои не сеют, не жнут и пожинаемое целовальникам да барышникам-перекупщикам сбывают. Полюбился ему как-то особенно душевным образом некий приют, в просторечии неофициально «Ершами» называемый; там он и резиденцию свою основал, и незаметным образом пристал к ершовскому хороводнику[9 - В Петербурге мошенники не составляют такой обширной и так правильно организованной общины, каковою является лондонская «Семья», если верить автору «Лондонских тайн» А. Троллопу. У нас они либо живут и промышляют в отдельности, каждый сам по себе, независимо от прочих, либо составляют ассоциации, шайки, число членов которых может быть различно: от трех или пяти до шестидесяти и более. Каждая такая ассоциация непременно сгруппируется в каком-нибудь кабаке или трактире, куда стекается в сбор для обсуждения и совещания по своим делам и для кутежа после работы. Такие шайки, как подметил автор, называются хороводами, которые они в большинстве случаев окрещивают прилагательным названием по имени своего трактира, как, например, ершовский хоровод, пекинский, малиновский и проч. Члены такой ассоциации подчиняются уже известным законам относительно дележа и некоторых обязанностей своих к товарищам, что читатель увидит впоследствии.]. Любили ершовцы посещать Александринский театр – благо, не очень далеко от «Ершей» находится, – и Юзич вместе с ними театралом сделался. Ершовцы же в Александринском театре не столько искусством артистов пленялись, сколько рыболовному промыслу себя посвящали – «удили камбалы и двуглазым спуску не давали»[10 - Камбала – лорнет, двуглазая – бинокль. У некоторых воров, отправляющихся по вечерам в театр с специальною целью – воровать бинокли и лорнеты, промысел этот называется «рыболовным»; причиною этого эпитета, конечно, послужила камбала. Впрочем, можно предположить, что название рыболовный промысел не есть общепринятое. Автор по крайней мере слышал его только раз и то совершенно случайно – и на этом основывает свое последнее предположение.].
Вот про этого-то самого Юзича, земляка и сотоварища по первой школе, и вспомнил так упорно задумавшийся Бодлевский. Вспомнил, что месяца три назад встретил он Юзича на улице, зашел с ним в первый же трактир и там, за бутылкою пива, которым великодушно угостил его Юзич, разговорился с ним по душе о превратностях судеб вообще и своих незавидных обстоятельств в особенности. Совета Юзича насчет хороводника Бодлевский не принял, ибо намеревался посвятить себя искусству самой высшей школы – превращать чистые бумажки в кредитные билеты государственного банка. Юзич, между прочим, радушно пожимая руку на прощание, сказал своему товарищу:
– А если я тебе, друг любезный, на что-нибудь понадоблюсь или просто повидаться захочешь, так приходи на Разъезжую улицу, спроси там заведение «Ерши», а в «Ершах» Юзича – там тебе и покажут. Я, брат, там завсегдатаем[11 - Завсегдатай – постоянный, обычный посетитель, habituе.]. А ежели буфетчик притворяться станет, что не знает такого имени, – наставительно прибавил Юзич, – так ты только шепни ему, что «секрет», мол, прислал, тотчас тебя и допустят.
Все это очень ясно и очень подробно припомнил Бодлевский в эту затруднительную для него минуту, припомнил и воспрянул просветленным духом своим. Надежда на скорое и удачное исполнение второй части Наташиного поручения начала блистать пред ним яркими лучами. Улыбаясь, стал он одеваться; улыбаясь, сбежал с лестницы и, улыбаясь же, фертом пошел по улице, по направлению к Загородному проспекту, в который у Пяти Углов впадает Разъезжая улица.
Продолжением Разъезжей улицы служит Чернышев переулок. Поэтому и та, и другой – не что иное, как одна и та же артерия, соединяющая два такие пункта, как Толкучка, с одной стороны, и с другой – Глазов кабак, находящийся на Лиговке, на Разъезжей же улице, в тех первобытных странах, известных под именем Ямской, где обитает преимущественно староверческая, раскольничья и скопческая часть петербургского населения. Туда же тянется и татарская.
Странное, в самом деле, явление представляют осадки петербургской оседлости. В Мещанских, на Вознесенском и в Гороховой сгруппировался преимущественно ремесленный, цеховой слой, с сильно преобладающим немецким элементом. Близ Обухова моста и в местах у церкви Вознесенья, особенно на Канаве и в Подьяческих, лепится население еврейское – тут вы на каждом почти шагу встречаете пронырливо-озабоченные физиономии и длиннополые пальто с камлотовыми шинелями детей Израиля. Васильевский остров – это своего рода status in statu[12 - Государство в государстве (лат.). – Ред.] – отличается совсем особенной, пустынно-чистоплотной внешностью с негоциантски-коммерческим и как бы английским характером. Окраины городского центра, как, например, Английская, Дворцовая и Гагаринская набережные, и с другой стороны Сергиевская и параллельно с нею идущие широкие улицы представляют царство различных палаццо, в которых засел остаток аристократический и вечно лепящийся к нему, как паразитное растение, элемент quasi[13 - Якобы (фр.). – Ред.] аристократический или откупной. Впрочем, та часть этого последнего разряда, которая резюмируется Сергиевской улицей, кроме аристократического, имеет еще характер отчасти военный, и именно учено-военный, с артиллерийским оттенком. Но все то, что носит на себе характер почвенный, великороссийский, – все это осело в юго-восточной окраине города, все это как-то невольно тянет к Москве и даже, по преимуществу, сгруппировалось в части, которая и название-то носит Московской.
Загородный проспект и особенно Разъезжая улица с Чернышевым переулком являются самыми живыми, самыми сильными и деятельными артериями этой последней части.
Мы уже сказали, что Разъезжая с Чернышевым соединяют два такие пункта, как Толкучка и Глазов кабак. Поэтому они вечно кишат снующим взад и вперед народом. Но это не народ Невского проспекта – «чистой» публики вы здесь не встретите. Изящный экипаж, и модный джентльмен, и изящно одетая дама составляют здесь редкое исключение (мы не говорим о Загородном проспекте). Публика Чернышева и Разъезжей в общей массе своей носит сероватый характер, с примесью громкого, крепкого говора и запаха пирогов, продающихся на лотках под тряпицею. Тут все народ, заботящийся о черствых повседневных нуждах, о работишке да куске насущного хлеба.
На всем пространстве этих двух улиц, от Толкучки до Глазова, вы встретите отчасти странные личности, то в чуйках, то в холуйских пальтишках, то отставных солдат с ворохом разного старого платья, перекинутого на руку. Эти странные личности, с пытливым, бойким и нагло-беспокойным, как бы вечно ищущим взглядом, называются маклаками или барышниками-перекупщиками. Место действия их не один Чернышев и Разъезжая – Щербаков переулок, двор мещанской гильдии. Садовая, лестницы средней и низшей руки трактиров и площадки театров во время спектаклей служат им постоянно ареною деятельности. На театральных площадках, где несколько маклаков стараются перебить друг другу товар, дело иногда доходит до такой запальчивости, что они, подхватывая выносимую им добычу, вырывают ее друг у друга из рук, ломают часы и театральные трубки и рвут платки пополам. Дело зачастую доходит до драки, а внакладе остается все-таки мазурик, у которого вырвали и перепортили добытую им вещь. Маклаки постоянно находятся в тесных и непосредственных сношениях с тем теплым людом, к которому принадлежал Юзич, и эксплуатируют этот люд самым бесчеловечным образом. У тех и у других очень много общего, и, между прочим, этот взгляд, по которому вы очень легко можете признать маклака и мазурика. Таковой характер взгляда вырабатывается жизнью и промыслом, которые ежечасно подвержены стольким превратностям всяческих случайностей.
Если вы – прохожий и несете что-нибудь в руках, маклак тотчас же оглядит вас своим пытливым взглядом – нет ли чего «подходящего», и тихо, но внятно спросит: «Продаете, что ль?»
Если идет приезжий мужичонко, купивший для себя на Толкучке порты, маклак непременно предложит ему сменяться. Мужичонко часто не прочь от такого рода операции. Маклак берет его порты, разглядывает их на свет и так и эдак, выворачивает наизнанку, растягивает материю, трет ее и щупает между пальцами. Это называется «крепость ошмалашить». А мужичонко все время с пытливым недоумением тупо смотрит на все эти проделки, после которых маклак, в озабоченном раздумье, перебрасывая совсем новенькие, крепкие и хорошие порты с ладони на ладонь, словно бы измеривая вес их, с страдательной рожею цмокает языком и цедит сквозь зубы:
– Эх!.. жаль, паря!
– Чего жаль? – тупо вопрошает, с испуганным лицом, ничего не понимающий мужичонко.
– Чего!.. Известно, чего – тебя жаль! Что дал за порты?
– Сорок копеек на серебро выходит…
– Сорок на серебро?.. Ну, брат, дрянь твое дело! Надули, совсем надули! Экий народ шельмовский в Питере живет!.. Вот, гляди сам – пестрядь-то как есть гнилье выходит.
– Да где ж гнилье?
– Где!.. все-то тебе где!.. Значит, я чувствую, – под пальцами некрепко шуршит – вот те гнилье-то где!
– Эко горе какое! – грустно-досадливо произносит мужичонко, совсем уверовавший в силу приведенного аргумента и ударив руками об полы зипунишка.
– Что за горе! Горю, милый человек, помочь можно, – утешает маклак, успевший своими ловкими приемами сразу огорошить простоватого мужичонку. – Давай, что ли, меняться! Вот тебе порты так уж порты! как есть в самом разе настоящее дело! Одно слово – красота!.. Пощупай-ко?
– Да что… я ведь не тово… – возражает мужичонко.
– Нет, ты, брат, пощупай! ты разницу, значит, почувствуй – потому я начистоту, из одной только жалости, выходит.
Мужичонко щупает, ровно ничего не понимая.
– Ну, видишь сам теперь! Мозги, чай, есть в голове! – спешит убедить его перекупщик. – Давай, что ли, порты да в придачу двугривенник менового – и дело с концом! По рукам, что ли! – заключает он, ловя мужичонкину руку и норовя хлопнуть по ней ладонью.
– Да где же это?.. еще двугривенник?
– Вот-те Христос – свою цену беру! с места не сойти! лопни глаза мои!.. Я ведь с тобой по-божескому – поди, чай, ведь тоже хрещеные, и хрест, значит, носим – занапрасну божиться не стану. А беру свою цену из жалости, значит, потому шельмы – хорошего человека надули! Да и порты же, прах их дери! лихие порты ведь – износу не будет!
Мужичонко раскошеливается и лезет за двугривенным. Маклак пронзительно устремляет взор свой в глубину его замшевой мошонки и чуть заметит там относительное обилие бабок[14 - Бабка, или сора – деньги вообще, какого бы рода или вида они ни были.] – как оно там, значит, финалы[15 - Финалы – бумажки, ассигнации. Некоторые произносят: финаги вместо финалы.] шуршат либо цари-колесики[16 - Колесо-царь – рубль серебряный, цари-колесики – серебряные деньги.] мало-мальски вертятся, позвякивают, – тотчас же дружески хлопает он мужичонку по плечу и говорит ему необыкновенно мягко и задушевно:
– Милый человек! Что мне от тебя деньги брать!.. Я, значит, по душе… Лучше пойдем-ка, вот, раздавим косушечку по малости али пивка пару слакаем. Чем мне деньги с тебя в придачу брать, так мы лучше, наместо того, магарыч разопьем. Идет, что ли?
– Ладно, – соглашается мужичонко, который от косушки никогда не прочь, а сам думает себе: «Экого человека честного да хорошего Господь-то послал мне – совсем бы пропащее дело, кабы не он выручил».
И ведет маклак мужичонку так-таки прямо в «Ерши». С буфетчиком у них давно уже печки-лавочки – дело зарученое, свои люди – только глазом мигнет, так у того уж и смекалка соответствует: несет он им графин, мужичонку почтенным величает и речь свою с ним «на вы, по чистоте столичной, по политике держит». Мужичонко с нескольких стаканчиков, гляди, раскочевряжится, видя такое почтение от питерских к своей сиволапой особе. Напоит его маклак до забвения, заведет его с половым в квартиру[17 - Так называется одна комната, с которою читатель познакомится несколько ниже.] и облупит там дочиста, даже и порты в обратную придачу возьмет, да потом и вытолкают мужичонку на вольный воздух прохлаждаться; а сами примутся меж тем «слам растырбанивать», то есть делить на законные доли благоприобретенную добычу.
К такому-то милому месту направлялся Казимир Бодлевский.
– Ну а потом?
– Потом поторопись достать мне какой-нибудь вид или паспорт, под чужим именем, и свой держи наготове. Да руку-то изучи поскорее. От этого все зависит!
– Трудно. Едва ли сумею… – процедил сквозь зубы Бодлевский, почесав у себя за ухом.
Наташа вспыхнула.
– А любить меня умеешь? – энергично возразила она, вскинув на него сверкающие досадой глаза. – Ты говоришь, что любишь, так сделай, если не лжешь! Бумажки же учишься делать?
Молодой человек в раздумье зашагал по своей конуре.
– А как скоро надо? – спросил он после минутного размышления. – Дня этак через два, что ли?
– Да не позже как через два дня, или все дело пропало! – решительным и уверенным тоном подтвердила девушка. – Через два дня я приду за запиской, и паспорт чтоб был уже готов мне.
– Хорошо, будет сделано, – согласился Бодлевский.
И Наташа стала диктовать ему содержание записки.
Тотчас же по уходе ее гравер принялся за работу.
Весь остальной день и всю ночь напролет прокорпел он над принесенными ею листками, вглядывался в характер почерка, сверял букву с буквой, слово с словом, и над каждым штрихом практиковался самым настойчивым образом, копируя и повторяя его чуть ли не по сту раз, пока наконец достигал желаемой чистоты; он перемарал несколько листов бумаги и самым упорным, что называется, микроскопическим трудом одолевал каждую букву. Он достиг уже того, что изменил свой почерк; оставалось еще придать ему непринужденную легкость и естественность. От натуги кровь бросилась ему в голову, в ушах звенело, и в глазах давно уже рябили зеленые мушки, а он все еще, не разгибая спины, продолжал работать.
Наконец, уже утром, записка была кончена, и под нею подписано имя княжны. Исполнение отличалось истинным мастерством и превзошло даже собственные ожидания Бодлевского. Легкость и чистота отделки были изумительны. Гравер, взглянув на почерк княжны, сличил его со своей работой и сам удивился – до какой степени поразительно было сходство.
И долго после этого любовался он на свое произведение, с тем отрадным отеческим чувством, которое так знакомо творцу-художнику, и лишь здесь-то, над этой запиской, впервые с гордостью сознал в себе истинного артиста.
IX
«ЕРШИ»
– Половина дела сделана! – решил он сам с собою, вскочив с провалившегося дивана после нервно-беспокойного часового полусна.
– Ну а паспорт? Вот тебе и осечка! – озадачился гравер, вспомнив вторую часть непременного поручения Наташи. – Паспорт… Да… осечка… – долго бормотал он в раздумье, опустив голову и уперев худощавые руки в угловатые колена свои. Наконец, перебирая в уме разное возможное и невозможное, подходящее и неподходящее, набрел он случайно на воспоминание об одном земляке, сапожном подмастерье Юзиче, который, по собственному откровенному сознанию в хмельную минуту, «более чувствует охоты к швецам-рукодельникам и к портняжному искусству, чем к сапожному ремеслу»[6 - У воров и мошенников существует своего рода условный знак (argot), известный под именем «музыки» или «байкового языка». Этот язык, между прочим, представляет много интереса и в физиологическом отношении. В нем, кроме необыкновенной образности и лаконической сжатости, отличительных качеств его, заметен сильный наплыв слов, звучащих очевидно неславянскими звуками. Не говоря уже о звуках отчасти польских, отчасти малорусских, вы весьма часто слышите в музыке слова вполне восточного происхождения; иногда попадаются намеки на корни романские и немецкие, хотя и не так часто, как татарские, финские и цыганские. Это смешение объясняется самым составом мошеннического сословия, служащего широким стоком для всех национальностей. Характер московского argot уже несколько разнится от петербургского: в нем менее и даже совсем почти нет звуков нерусских, и только одни татарские допускаются в него, и это точно так же зависит от того, что состав жульнических (мазурнических) обществ в Москве более петербургского носит на себе характер почвенный, российский. Москва как будто везде и во всем старается проводить свои собственные, славяно-московские тенденции. Впоследствии, при выходе в свет всего романа, автор намерен сделать более подробное исследование о байковом языке, с приложением словаря. Читателю неоднократно еще встретится эта музыка, которая иногда потребует не одного только перевода байковых слов на русский язык, но и разъяснения исторического либо даже филологического смысла, заключающегося в них. Пример – чтобы не ходить за ним далеко – заключается в тех самых выражениях, по поводу которых сделана настоящая выноска. Швец на белорусском и малорусском наречии значит – портной. Это еще ничего ровно не объясняет читателю. Швецовым или портняжным искусством называется на байковом языке целая отрасль воровского промысла. Воры и мошенники делятся на категории и градации, смотря по характеру своего промысла, как, например, карманники, комнатные или домашние, паркетники, уличники, скамьевщики (конокрады), ночники – это их общее разделение; за ним следует деление более частное: швецы (по части платья), скорняки (по части мехов), ювелиры (золотые вещи), финажники, сорники или бабочники (ворующие чистые деньги). Нельзя сказать, чтобы воры поименованных категорий строго держались каждый своей специальности. В общем характере своем они без исключения следуют правилу – «не клади плохо», воруя все, что попало под руку, и, таким образом, швец весьма легко может забраться в область финажника, ювелир – в область скорняка или скамьевщика и т. д. Но каждый из них – по душевному ли расположению или по сноровке и умению – какую-нибудь отрасль предпочитает, чувствует к ней более симпатии и, таким образом, зачисляет себя в ювелиры или швецы, стараясь, конечно, более ориентироваться в избранной им специальности.].
Малый, значит, отчасти подходящий и в задуманном деле какие-нибудь лазейки указать может. Он уже с год назад был прогнан от «честного сапожного немца, Окерблюма», за пьянство с буйством и безобразием, да за то еще, что соседнему целовальнику стали уж больно часто «приходиться по нраву» окерблюмовские голенища, подошвы и прочий выростковый и опойковый товар. С тех самых пор Юзич решил, что не следует заниматься таким неблагодарным ремеслом, за которое хозяева выгоняют в шею да еще вором обзывают всеартельно, а лучше-де призаняться искусством свободным – хотя бы на первый случай карманным, а там швецовым или скорняжным, а затем, при дальнейшем развитии, можно и в ювелиры начистоту записаться[7 - Ходить начистоту по музыке – выражение, означающее искусство de lahaut еcole (высшая школа (фр.). – Ред.). «Ходить по музыке» – значит просто воровать; но «на чистоту» заставляет подразумевать в себе ловкость, проворство приемов и опытность.]. И стал он, раб божий, вольною птицею лыжи свои направлять с площади на улицу, с улицы в переулок, из трактира в кабак, из кабака в «заведение», и все больше задними невоскресными ходами[8 - Каждое заведение, будет ли то трактир или питейный дом, имеет непременно два входа: один – с улицы, наружный, показной, над которым, по обычаю, красуется вывеска; другой – черный, непременно со двора, старается (особенно в кабаках) замаскироваться каким-нибудь хламом, вроде порожних пивных ящиков, дров или чего-нибудь подобного. Мазурики эти последние ходы называют невоскресными, то есть непраздничными, непарадными.] норовил, с тех темных, незаметных лесенок, по которым спускается и подымается секрет, то есть свои, темные людишки, кои не сеют, не жнут и пожинаемое целовальникам да барышникам-перекупщикам сбывают. Полюбился ему как-то особенно душевным образом некий приют, в просторечии неофициально «Ершами» называемый; там он и резиденцию свою основал, и незаметным образом пристал к ершовскому хороводнику[9 - В Петербурге мошенники не составляют такой обширной и так правильно организованной общины, каковою является лондонская «Семья», если верить автору «Лондонских тайн» А. Троллопу. У нас они либо живут и промышляют в отдельности, каждый сам по себе, независимо от прочих, либо составляют ассоциации, шайки, число членов которых может быть различно: от трех или пяти до шестидесяти и более. Каждая такая ассоциация непременно сгруппируется в каком-нибудь кабаке или трактире, куда стекается в сбор для обсуждения и совещания по своим делам и для кутежа после работы. Такие шайки, как подметил автор, называются хороводами, которые они в большинстве случаев окрещивают прилагательным названием по имени своего трактира, как, например, ершовский хоровод, пекинский, малиновский и проч. Члены такой ассоциации подчиняются уже известным законам относительно дележа и некоторых обязанностей своих к товарищам, что читатель увидит впоследствии.]. Любили ершовцы посещать Александринский театр – благо, не очень далеко от «Ершей» находится, – и Юзич вместе с ними театралом сделался. Ершовцы же в Александринском театре не столько искусством артистов пленялись, сколько рыболовному промыслу себя посвящали – «удили камбалы и двуглазым спуску не давали»[10 - Камбала – лорнет, двуглазая – бинокль. У некоторых воров, отправляющихся по вечерам в театр с специальною целью – воровать бинокли и лорнеты, промысел этот называется «рыболовным»; причиною этого эпитета, конечно, послужила камбала. Впрочем, можно предположить, что название рыболовный промысел не есть общепринятое. Автор по крайней мере слышал его только раз и то совершенно случайно – и на этом основывает свое последнее предположение.].
Вот про этого-то самого Юзича, земляка и сотоварища по первой школе, и вспомнил так упорно задумавшийся Бодлевский. Вспомнил, что месяца три назад встретил он Юзича на улице, зашел с ним в первый же трактир и там, за бутылкою пива, которым великодушно угостил его Юзич, разговорился с ним по душе о превратностях судеб вообще и своих незавидных обстоятельств в особенности. Совета Юзича насчет хороводника Бодлевский не принял, ибо намеревался посвятить себя искусству самой высшей школы – превращать чистые бумажки в кредитные билеты государственного банка. Юзич, между прочим, радушно пожимая руку на прощание, сказал своему товарищу:
– А если я тебе, друг любезный, на что-нибудь понадоблюсь или просто повидаться захочешь, так приходи на Разъезжую улицу, спроси там заведение «Ерши», а в «Ершах» Юзича – там тебе и покажут. Я, брат, там завсегдатаем[11 - Завсегдатай – постоянный, обычный посетитель, habituе.]. А ежели буфетчик притворяться станет, что не знает такого имени, – наставительно прибавил Юзич, – так ты только шепни ему, что «секрет», мол, прислал, тотчас тебя и допустят.
Все это очень ясно и очень подробно припомнил Бодлевский в эту затруднительную для него минуту, припомнил и воспрянул просветленным духом своим. Надежда на скорое и удачное исполнение второй части Наташиного поручения начала блистать пред ним яркими лучами. Улыбаясь, стал он одеваться; улыбаясь, сбежал с лестницы и, улыбаясь же, фертом пошел по улице, по направлению к Загородному проспекту, в который у Пяти Углов впадает Разъезжая улица.
Продолжением Разъезжей улицы служит Чернышев переулок. Поэтому и та, и другой – не что иное, как одна и та же артерия, соединяющая два такие пункта, как Толкучка, с одной стороны, и с другой – Глазов кабак, находящийся на Лиговке, на Разъезжей же улице, в тех первобытных странах, известных под именем Ямской, где обитает преимущественно староверческая, раскольничья и скопческая часть петербургского населения. Туда же тянется и татарская.
Странное, в самом деле, явление представляют осадки петербургской оседлости. В Мещанских, на Вознесенском и в Гороховой сгруппировался преимущественно ремесленный, цеховой слой, с сильно преобладающим немецким элементом. Близ Обухова моста и в местах у церкви Вознесенья, особенно на Канаве и в Подьяческих, лепится население еврейское – тут вы на каждом почти шагу встречаете пронырливо-озабоченные физиономии и длиннополые пальто с камлотовыми шинелями детей Израиля. Васильевский остров – это своего рода status in statu[12 - Государство в государстве (лат.). – Ред.] – отличается совсем особенной, пустынно-чистоплотной внешностью с негоциантски-коммерческим и как бы английским характером. Окраины городского центра, как, например, Английская, Дворцовая и Гагаринская набережные, и с другой стороны Сергиевская и параллельно с нею идущие широкие улицы представляют царство различных палаццо, в которых засел остаток аристократический и вечно лепящийся к нему, как паразитное растение, элемент quasi[13 - Якобы (фр.). – Ред.] аристократический или откупной. Впрочем, та часть этого последнего разряда, которая резюмируется Сергиевской улицей, кроме аристократического, имеет еще характер отчасти военный, и именно учено-военный, с артиллерийским оттенком. Но все то, что носит на себе характер почвенный, великороссийский, – все это осело в юго-восточной окраине города, все это как-то невольно тянет к Москве и даже, по преимуществу, сгруппировалось в части, которая и название-то носит Московской.
Загородный проспект и особенно Разъезжая улица с Чернышевым переулком являются самыми живыми, самыми сильными и деятельными артериями этой последней части.
Мы уже сказали, что Разъезжая с Чернышевым соединяют два такие пункта, как Толкучка и Глазов кабак. Поэтому они вечно кишат снующим взад и вперед народом. Но это не народ Невского проспекта – «чистой» публики вы здесь не встретите. Изящный экипаж, и модный джентльмен, и изящно одетая дама составляют здесь редкое исключение (мы не говорим о Загородном проспекте). Публика Чернышева и Разъезжей в общей массе своей носит сероватый характер, с примесью громкого, крепкого говора и запаха пирогов, продающихся на лотках под тряпицею. Тут все народ, заботящийся о черствых повседневных нуждах, о работишке да куске насущного хлеба.
На всем пространстве этих двух улиц, от Толкучки до Глазова, вы встретите отчасти странные личности, то в чуйках, то в холуйских пальтишках, то отставных солдат с ворохом разного старого платья, перекинутого на руку. Эти странные личности, с пытливым, бойким и нагло-беспокойным, как бы вечно ищущим взглядом, называются маклаками или барышниками-перекупщиками. Место действия их не один Чернышев и Разъезжая – Щербаков переулок, двор мещанской гильдии. Садовая, лестницы средней и низшей руки трактиров и площадки театров во время спектаклей служат им постоянно ареною деятельности. На театральных площадках, где несколько маклаков стараются перебить друг другу товар, дело иногда доходит до такой запальчивости, что они, подхватывая выносимую им добычу, вырывают ее друг у друга из рук, ломают часы и театральные трубки и рвут платки пополам. Дело зачастую доходит до драки, а внакладе остается все-таки мазурик, у которого вырвали и перепортили добытую им вещь. Маклаки постоянно находятся в тесных и непосредственных сношениях с тем теплым людом, к которому принадлежал Юзич, и эксплуатируют этот люд самым бесчеловечным образом. У тех и у других очень много общего, и, между прочим, этот взгляд, по которому вы очень легко можете признать маклака и мазурика. Таковой характер взгляда вырабатывается жизнью и промыслом, которые ежечасно подвержены стольким превратностям всяческих случайностей.
Если вы – прохожий и несете что-нибудь в руках, маклак тотчас же оглядит вас своим пытливым взглядом – нет ли чего «подходящего», и тихо, но внятно спросит: «Продаете, что ль?»
Если идет приезжий мужичонко, купивший для себя на Толкучке порты, маклак непременно предложит ему сменяться. Мужичонко часто не прочь от такого рода операции. Маклак берет его порты, разглядывает их на свет и так и эдак, выворачивает наизнанку, растягивает материю, трет ее и щупает между пальцами. Это называется «крепость ошмалашить». А мужичонко все время с пытливым недоумением тупо смотрит на все эти проделки, после которых маклак, в озабоченном раздумье, перебрасывая совсем новенькие, крепкие и хорошие порты с ладони на ладонь, словно бы измеривая вес их, с страдательной рожею цмокает языком и цедит сквозь зубы:
– Эх!.. жаль, паря!
– Чего жаль? – тупо вопрошает, с испуганным лицом, ничего не понимающий мужичонко.
– Чего!.. Известно, чего – тебя жаль! Что дал за порты?
– Сорок копеек на серебро выходит…
– Сорок на серебро?.. Ну, брат, дрянь твое дело! Надули, совсем надули! Экий народ шельмовский в Питере живет!.. Вот, гляди сам – пестрядь-то как есть гнилье выходит.
– Да где ж гнилье?
– Где!.. все-то тебе где!.. Значит, я чувствую, – под пальцами некрепко шуршит – вот те гнилье-то где!
– Эко горе какое! – грустно-досадливо произносит мужичонко, совсем уверовавший в силу приведенного аргумента и ударив руками об полы зипунишка.
– Что за горе! Горю, милый человек, помочь можно, – утешает маклак, успевший своими ловкими приемами сразу огорошить простоватого мужичонку. – Давай, что ли, меняться! Вот тебе порты так уж порты! как есть в самом разе настоящее дело! Одно слово – красота!.. Пощупай-ко?
– Да что… я ведь не тово… – возражает мужичонко.
– Нет, ты, брат, пощупай! ты разницу, значит, почувствуй – потому я начистоту, из одной только жалости, выходит.
Мужичонко щупает, ровно ничего не понимая.
– Ну, видишь сам теперь! Мозги, чай, есть в голове! – спешит убедить его перекупщик. – Давай, что ли, порты да в придачу двугривенник менового – и дело с концом! По рукам, что ли! – заключает он, ловя мужичонкину руку и норовя хлопнуть по ней ладонью.
– Да где же это?.. еще двугривенник?
– Вот-те Христос – свою цену беру! с места не сойти! лопни глаза мои!.. Я ведь с тобой по-божескому – поди, чай, ведь тоже хрещеные, и хрест, значит, носим – занапрасну божиться не стану. А беру свою цену из жалости, значит, потому шельмы – хорошего человека надули! Да и порты же, прах их дери! лихие порты ведь – износу не будет!
Мужичонко раскошеливается и лезет за двугривенным. Маклак пронзительно устремляет взор свой в глубину его замшевой мошонки и чуть заметит там относительное обилие бабок[14 - Бабка, или сора – деньги вообще, какого бы рода или вида они ни были.] – как оно там, значит, финалы[15 - Финалы – бумажки, ассигнации. Некоторые произносят: финаги вместо финалы.] шуршат либо цари-колесики[16 - Колесо-царь – рубль серебряный, цари-колесики – серебряные деньги.] мало-мальски вертятся, позвякивают, – тотчас же дружески хлопает он мужичонку по плечу и говорит ему необыкновенно мягко и задушевно:
– Милый человек! Что мне от тебя деньги брать!.. Я, значит, по душе… Лучше пойдем-ка, вот, раздавим косушечку по малости али пивка пару слакаем. Чем мне деньги с тебя в придачу брать, так мы лучше, наместо того, магарыч разопьем. Идет, что ли?
– Ладно, – соглашается мужичонко, который от косушки никогда не прочь, а сам думает себе: «Экого человека честного да хорошего Господь-то послал мне – совсем бы пропащее дело, кабы не он выручил».
И ведет маклак мужичонку так-таки прямо в «Ерши». С буфетчиком у них давно уже печки-лавочки – дело зарученое, свои люди – только глазом мигнет, так у того уж и смекалка соответствует: несет он им графин, мужичонку почтенным величает и речь свою с ним «на вы, по чистоте столичной, по политике держит». Мужичонко с нескольких стаканчиков, гляди, раскочевряжится, видя такое почтение от питерских к своей сиволапой особе. Напоит его маклак до забвения, заведет его с половым в квартиру[17 - Так называется одна комната, с которою читатель познакомится несколько ниже.] и облупит там дочиста, даже и порты в обратную придачу возьмет, да потом и вытолкают мужичонку на вольный воздух прохлаждаться; а сами примутся меж тем «слам растырбанивать», то есть делить на законные доли благоприобретенную добычу.
К такому-то милому месту направлялся Казимир Бодлевский.