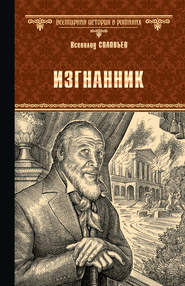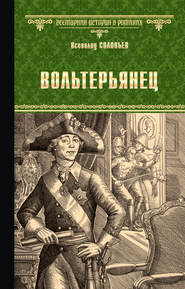По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Капитан гренадерской роты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ан можешь! Ан поднимешься! – продолжал улыбаться Стрешнев. – Хочешь об заклад биться, что встанешь? Скажу одно слово такое – и встанешь.
– Да что такое? Что ты? – уже оживленнее спросил Остерман. – Какое такое слово?
– А вот какое: в караульне Зимнего дворца сидит один человек, и видел я того человека своими глазами, и человек тот… Бирон. Регент сидит в караульне. Слышишь?
– Что ты! – вскочил с кровати Остерман, даже совсем позабыв про свои больные ноги. – Что ты? Неужто? Ach, mein Gott!..[6 - О, Господи! (нем.).]
– Братец, пойдем, зайди ко мне на минуточку, пока он будет одеваться, – обратилась графиня к Стрешневу и увела его из спальни мужа. Она знала, что теперь надо оставить Андрея Ивановича одного, надо дать ему хорошенько подумать, не мешать.
Андрей Иванович сидел на кровати.
Никогда еще в жизни никакое известие так не поражало его, как то, какое привез сейчас Стрешнев.
Он дни целые и ночи почти напролет все обдумывал, все решал, а тут хвать, без него сделали! Его не спросились, да и сделали-то удачно!
Горькое, обидное чувство шевельнулось в Остермане.
«Стар, что ли, я становлюсь? – с ужасом подумал он. – Другим уступаю дорогу. Стрешнев сказал, что это все Миних! А вот Миниха-то я и проглядел, за ним-то и не следил! Эх, я, старый дурак! – с каким-то наслаждением выбранил себя Андрей Иванович. – Ну, что же теперь… теперь не вернешь! Теперь нужно в пояс кланяться господину Миниху. Да, нужно, нужно туда поехать, нужно осмотреться. Да оно и ничего, пожалуй, иной раз бывает удобнее загребать жар чужими руками, своих не обожжешь, а жару загрести надо!»
И с этой успокоительной мыслью, представившей ему обширное поле для новой деятельности, Андрей Иванович стал поспешно одеваться.
Два лакея снесли его в придворную карету, в которой приехал Стрешнев. Лакеи снесли его и в покои принцессы Анны Леопольдовны.
Она сама подставила ему кресло, а он с жаром целовал ее руку и рассыпался в поздравлениях. Поздравлял он также и фельдмаршала Миниха, восхищался его смелостью и мужеством и всеми силами старался казаться самым довольным человеком, осчастливленным этим событием. Одно только его раздражало: глядя на Миниха, он понимал, что тот только делает вид, что принимает за чистую монету его любезности, а в глубине души своей жестоко теперь смеется над ним и дразнит его.
«Ничего, торжествуй себе! Торжествуй! – успокаивая себя, думал Остерман. – Еще посмотрим, чем все это кончится! Долго ли ты продержишься? Может быть, ты захочешь теперь совсем от меня отделаться? Да нет! Я хоть и промахнулся, а все еще жив и голова моя со мною…»
Анна Леопольдовна обратилась к Андрею Ивановичу за советом: что им теперь делать?
Он начал говорить, начал высказывать свои предположения, но каждый раз обращался к Миниху и спрашивал его, согласен ли он с ним.
Миних утвердительно кивал головою, а сам думал: «Вертись, Андрей Иванович, вертись! А все же вот мы и без тебя обошлись. Не у одного тебя голова на плечах, нашлись и другие…»
Вернувшись домой, Остерман снова лег в постель и весь тот день был ужасно не в духе. Теперь ему даже было больно не за себя. Он знал, что себе-то он еще все устроит. Даже его оскорбленное самолюбие смирилось перед мыслью, что Анна Леопольдовна будет признавать своим благодетелем не его, а Миниха. Он знал, что, может быть, сумеет еще совсем изменить мысли принцессы относительно благодеяний фельдмаршала. Его раздражало и мучило то, что, того и жди, теперь померкнет ореол, окружавший его в глазах всей Европы, до сих пор думавшей, что ни одно великое событие, ни один переворот в России не может устроиться помимо него, Остермана.
И в Европе действительно так думали, а в первые дни по свержении Бирона даже и весь Петербург считал Остермана хоть тайным, но действительным виновником гибели регента. Маркиз де ла Шетарди писал своему королю:
«Болезнь графа Остермана сильно, если не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокрытию тайн, которые он принимал, показывая вид, что ни с кем не имеет сообщения. Так он поступал всегда. Верный и смелый прием, которым нанесен удар, может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Остермана».
Но скоро Андрей Иванович себя успокоил. Он весь отдался злобе дня, устраиванию своих дел, приготовлению ответного удара Миниху. Один только раз еще его уязвленное самолюбие сильно заныло. Это было тогда, когда он получил из Константинополя от Румянцева такое послание:
«Что касается до той, с Богом начатой перемены, не только я здесь, но и все в свите моей сердечное порадование возымели и яко едиными усты Богу моление принесли с прославлением имени вашего сиятельства, яко первого сына отечества Российской империи, ведая, что все то мудрыми вашего сиятельства поступками учинено».
Андрей Иванович порывисто скомкал это письмо, а когда жена полюбопытствовала узнать, что пишет Румянцев, то он совсем не мог сдержать себя и закричал на нее, чтобы она не смела его трогать и убиралась.
А он со своей графиней жил душа в душу и даже в самые свои трудные минуты относился к ней с нежностью и не иначе называл ее как «mein Herzchen»[7 - Мое сердечко (нем.).].
XIV
Расставаясь с фельдмаршалом, Анна Леопольдовна сказала ему, чтоб он немедленно занялся списком наград. Она была так взволнована всеми событиями этой ночи, что сама отказалась распределять награды и вполне полагалась на фельдмаршала.
– Только, пожалуйста, чтобы все были довольны, – прибавила она, – я хочу, чтобы первый день нашего торжества был радостным днем и для всех, кто не враг наш.
Миних, вернувшись домой, призвал своего сына и барона Менгдена, председателя коммерц-коллегии.
– Приготовь бумагу, я буду тебе диктовать, – сказал он сыну.
Затем было приступлено к составлению списка.
– Пиши, – сказал Миних, – во-первых, о том, что принцесса Анна Леопольдовна провозглашается правительницей вместо Бирона и возлагает на себя Андреевский орден, а меня жалует в генералиссимусы.
– Батюшка, – заметил Миниху его сын, – о тебе я писать не стану.
– Это еще что такое? – даже вскочил фельдмаршал со своего кресла.
– А то, что звание генералиссимуса, наверное, пожелает принц Антон, и, конечно, тебе не следует начинать неприятными отношениями с принцем.
Миних задумался на минуту и сообразил, что он действительно хватил через край и что сын совершенно прав.
– Да, спасибо, что остановил. Ты правду говоришь, но что же мне-то?
– А тебе самое лучшее просить звание первого министра.
– Хорошо, помирюсь и на этом! Но ведь и тут есть возражение: нам не следует обижать Остермана, а Остерман наверное обидится, он не захочет терпеть над собою первого министра.
– Так следует повысить и Остермана, – заметил Менгден.
– Но как же? Как? – задумался Миних.
И вот он вспомнил, что Остерман давно уже намекал о своем желании быть великим адмиралом.
– Да, да! – оживленно обратился Миних к сыну. – Сделаем Остермана великим адмиралом. Звание это почетное, но для меня не опасное, стеснять меня не будет!
– Кто знает, будет ли доволен Остерман этим назначением, – сказал Миних-сын, прерывая свою работу, – я так думаю, что ему больше захочется быть великим канцлером.
– Мало ли что захочется! – быстро отвечал фельдмаршал. – Мало ли что захочется! Конечно, мы должны постараться предоставить ему очень почетное звание, должны избежать вражды с ним, но слишком далеко пускать его все же не следует. Не следует забывать, что сегодняшняя ночь не его рук дело, а моих. Так неужели же мне не воспользоваться этим? Пустить Остермана в великие канцлеры, да это совсем связать себе руки, отказаться от дел иностранных, а я вовсе не намерен отказываться от них. Нет! По-моему, великим канцлером нужно назначить князя Черкасского.
– Князя Черкасского? – изумленно отозвался Менгден. – Да ведь его отношения к Бирону всем, кажется, нам известны, и по этим отношениям его наказать следует, сослать, а не награждать таким образом.
– Ну, с этим-то я не согласен! – сказал Миних. – Мало ли кто был в хороших отношениях с Бироном, потому что не быть с ним в хороших отношениях – значило губить себя. Нет, я стою на Черкасском, он такой человек, который никому не будет мешать, он будет на своем месте.
Дальнейшая работа совершалась без перерыва, и скоро список наград был готов.
С этим списком сын Миниха отправился к принцессе. Сам же фельдмаршал поручил ему сказать, что будет во дворце часа через два, так как совсем выбился из сил и должен вздремнуть немного.
Он действительно было заснул, но тотчас же и опять проснулся в волнении.
«Нет! Теперь не до сна, мне нужно быть там, нельзя терять ни минуты. Нельзя допускать, чтобы кто-нибудь воспользовался чем-либо без моей воли, чтобы кто-нибудь перебил или ослабил мое влияние на принцессу».
– Да что такое? Что ты? – уже оживленнее спросил Остерман. – Какое такое слово?
– А вот какое: в караульне Зимнего дворца сидит один человек, и видел я того человека своими глазами, и человек тот… Бирон. Регент сидит в караульне. Слышишь?
– Что ты! – вскочил с кровати Остерман, даже совсем позабыв про свои больные ноги. – Что ты? Неужто? Ach, mein Gott!..[6 - О, Господи! (нем.).]
– Братец, пойдем, зайди ко мне на минуточку, пока он будет одеваться, – обратилась графиня к Стрешневу и увела его из спальни мужа. Она знала, что теперь надо оставить Андрея Ивановича одного, надо дать ему хорошенько подумать, не мешать.
Андрей Иванович сидел на кровати.
Никогда еще в жизни никакое известие так не поражало его, как то, какое привез сейчас Стрешнев.
Он дни целые и ночи почти напролет все обдумывал, все решал, а тут хвать, без него сделали! Его не спросились, да и сделали-то удачно!
Горькое, обидное чувство шевельнулось в Остермане.
«Стар, что ли, я становлюсь? – с ужасом подумал он. – Другим уступаю дорогу. Стрешнев сказал, что это все Миних! А вот Миниха-то я и проглядел, за ним-то и не следил! Эх, я, старый дурак! – с каким-то наслаждением выбранил себя Андрей Иванович. – Ну, что же теперь… теперь не вернешь! Теперь нужно в пояс кланяться господину Миниху. Да, нужно, нужно туда поехать, нужно осмотреться. Да оно и ничего, пожалуй, иной раз бывает удобнее загребать жар чужими руками, своих не обожжешь, а жару загрести надо!»
И с этой успокоительной мыслью, представившей ему обширное поле для новой деятельности, Андрей Иванович стал поспешно одеваться.
Два лакея снесли его в придворную карету, в которой приехал Стрешнев. Лакеи снесли его и в покои принцессы Анны Леопольдовны.
Она сама подставила ему кресло, а он с жаром целовал ее руку и рассыпался в поздравлениях. Поздравлял он также и фельдмаршала Миниха, восхищался его смелостью и мужеством и всеми силами старался казаться самым довольным человеком, осчастливленным этим событием. Одно только его раздражало: глядя на Миниха, он понимал, что тот только делает вид, что принимает за чистую монету его любезности, а в глубине души своей жестоко теперь смеется над ним и дразнит его.
«Ничего, торжествуй себе! Торжествуй! – успокаивая себя, думал Остерман. – Еще посмотрим, чем все это кончится! Долго ли ты продержишься? Может быть, ты захочешь теперь совсем от меня отделаться? Да нет! Я хоть и промахнулся, а все еще жив и голова моя со мною…»
Анна Леопольдовна обратилась к Андрею Ивановичу за советом: что им теперь делать?
Он начал говорить, начал высказывать свои предположения, но каждый раз обращался к Миниху и спрашивал его, согласен ли он с ним.
Миних утвердительно кивал головою, а сам думал: «Вертись, Андрей Иванович, вертись! А все же вот мы и без тебя обошлись. Не у одного тебя голова на плечах, нашлись и другие…»
Вернувшись домой, Остерман снова лег в постель и весь тот день был ужасно не в духе. Теперь ему даже было больно не за себя. Он знал, что себе-то он еще все устроит. Даже его оскорбленное самолюбие смирилось перед мыслью, что Анна Леопольдовна будет признавать своим благодетелем не его, а Миниха. Он знал, что, может быть, сумеет еще совсем изменить мысли принцессы относительно благодеяний фельдмаршала. Его раздражало и мучило то, что, того и жди, теперь померкнет ореол, окружавший его в глазах всей Европы, до сих пор думавшей, что ни одно великое событие, ни один переворот в России не может устроиться помимо него, Остермана.
И в Европе действительно так думали, а в первые дни по свержении Бирона даже и весь Петербург считал Остермана хоть тайным, но действительным виновником гибели регента. Маркиз де ла Шетарди писал своему королю:
«Болезнь графа Остермана сильно, если не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокрытию тайн, которые он принимал, показывая вид, что ни с кем не имеет сообщения. Так он поступал всегда. Верный и смелый прием, которым нанесен удар, может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Остермана».
Но скоро Андрей Иванович себя успокоил. Он весь отдался злобе дня, устраиванию своих дел, приготовлению ответного удара Миниху. Один только раз еще его уязвленное самолюбие сильно заныло. Это было тогда, когда он получил из Константинополя от Румянцева такое послание:
«Что касается до той, с Богом начатой перемены, не только я здесь, но и все в свите моей сердечное порадование возымели и яко едиными усты Богу моление принесли с прославлением имени вашего сиятельства, яко первого сына отечества Российской империи, ведая, что все то мудрыми вашего сиятельства поступками учинено».
Андрей Иванович порывисто скомкал это письмо, а когда жена полюбопытствовала узнать, что пишет Румянцев, то он совсем не мог сдержать себя и закричал на нее, чтобы она не смела его трогать и убиралась.
А он со своей графиней жил душа в душу и даже в самые свои трудные минуты относился к ней с нежностью и не иначе называл ее как «mein Herzchen»[7 - Мое сердечко (нем.).].
XIV
Расставаясь с фельдмаршалом, Анна Леопольдовна сказала ему, чтоб он немедленно занялся списком наград. Она была так взволнована всеми событиями этой ночи, что сама отказалась распределять награды и вполне полагалась на фельдмаршала.
– Только, пожалуйста, чтобы все были довольны, – прибавила она, – я хочу, чтобы первый день нашего торжества был радостным днем и для всех, кто не враг наш.
Миних, вернувшись домой, призвал своего сына и барона Менгдена, председателя коммерц-коллегии.
– Приготовь бумагу, я буду тебе диктовать, – сказал он сыну.
Затем было приступлено к составлению списка.
– Пиши, – сказал Миних, – во-первых, о том, что принцесса Анна Леопольдовна провозглашается правительницей вместо Бирона и возлагает на себя Андреевский орден, а меня жалует в генералиссимусы.
– Батюшка, – заметил Миниху его сын, – о тебе я писать не стану.
– Это еще что такое? – даже вскочил фельдмаршал со своего кресла.
– А то, что звание генералиссимуса, наверное, пожелает принц Антон, и, конечно, тебе не следует начинать неприятными отношениями с принцем.
Миних задумался на минуту и сообразил, что он действительно хватил через край и что сын совершенно прав.
– Да, спасибо, что остановил. Ты правду говоришь, но что же мне-то?
– А тебе самое лучшее просить звание первого министра.
– Хорошо, помирюсь и на этом! Но ведь и тут есть возражение: нам не следует обижать Остермана, а Остерман наверное обидится, он не захочет терпеть над собою первого министра.
– Так следует повысить и Остермана, – заметил Менгден.
– Но как же? Как? – задумался Миних.
И вот он вспомнил, что Остерман давно уже намекал о своем желании быть великим адмиралом.
– Да, да! – оживленно обратился Миних к сыну. – Сделаем Остермана великим адмиралом. Звание это почетное, но для меня не опасное, стеснять меня не будет!
– Кто знает, будет ли доволен Остерман этим назначением, – сказал Миних-сын, прерывая свою работу, – я так думаю, что ему больше захочется быть великим канцлером.
– Мало ли что захочется! – быстро отвечал фельдмаршал. – Мало ли что захочется! Конечно, мы должны постараться предоставить ему очень почетное звание, должны избежать вражды с ним, но слишком далеко пускать его все же не следует. Не следует забывать, что сегодняшняя ночь не его рук дело, а моих. Так неужели же мне не воспользоваться этим? Пустить Остермана в великие канцлеры, да это совсем связать себе руки, отказаться от дел иностранных, а я вовсе не намерен отказываться от них. Нет! По-моему, великим канцлером нужно назначить князя Черкасского.
– Князя Черкасского? – изумленно отозвался Менгден. – Да ведь его отношения к Бирону всем, кажется, нам известны, и по этим отношениям его наказать следует, сослать, а не награждать таким образом.
– Ну, с этим-то я не согласен! – сказал Миних. – Мало ли кто был в хороших отношениях с Бироном, потому что не быть с ним в хороших отношениях – значило губить себя. Нет, я стою на Черкасском, он такой человек, который никому не будет мешать, он будет на своем месте.
Дальнейшая работа совершалась без перерыва, и скоро список наград был готов.
С этим списком сын Миниха отправился к принцессе. Сам же фельдмаршал поручил ему сказать, что будет во дворце часа через два, так как совсем выбился из сил и должен вздремнуть немного.
Он действительно было заснул, но тотчас же и опять проснулся в волнении.
«Нет! Теперь не до сна, мне нужно быть там, нельзя терять ни минуты. Нельзя допускать, чтобы кто-нибудь воспользовался чем-либо без моей воли, чтобы кто-нибудь перебил или ослабил мое влияние на принцессу».