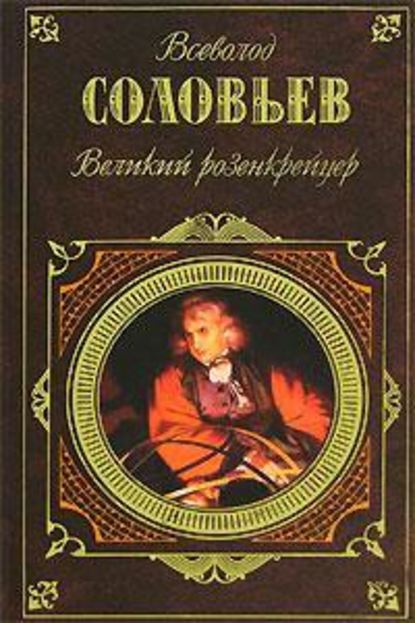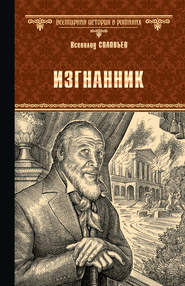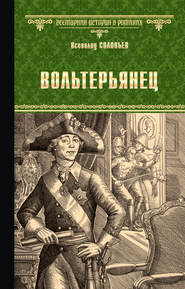По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Великий розенкрейцер
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это в Нюренберге будет заседание?
– Да, и там будет… только он спешит в другое место… в другое заседание… к старикам.
– Где же это?
Но Серафина уже исчезла. Калиостро едва успел подхватить падавшую Лоренцу и снес ее в спальню. Она спала теперь естественным, спокойным сном.
На следующее утро, прочитывая свою корреспонденцию, Калиостро увидел письмо, печать которого ему была знакома. Он быстро разорвал конверт и прочел латинские строки, где значилось:
«Годичное собрание в N. О месте будет сообщено своевременно. Приезжай, если помнишь клятву, данную учителю. Albus».
Калиостро уже ничего не страшился. Он был спокоен. Через день в Страсбуре узнали, что благодетель человечества куда-то уехал, но вернется в самом непродолжительном времени.
XIV
Один из диких уголков южной Германии. Кругом лес и горы. Мимо скал, пропадая в расщелинах, исчезая в глубине леса, поднимаясь по кручам и лепясь у оврагов, тянется мало кому ведомая дорога. До ближайшего города далеко – скорой езды не менее двенадцати часов. Два-три бедных селения с какой-нибудь сотней жителей-горцев, ничего и никого не знающих, кроме своих односельчан, кроме своего леса и горы, только и нарушают полное безлюдье этой местности.
Редкий путешественник, какой-нибудь студент, слишком засидевшийся и заучившийся и во время летних вакаций задумавший сделать путешествие пешком в глубь дикой горной страны, зайдя сюда, останавливается и спрашивает себя: «Куда же дальше?» Вековые ели и поросшие мхом скалы остаются безмолвными на этот вопрос, да и бедный горец, встретясь студенту, немногое ему скажет.
Он скажет ему: «Да куда ж тут! Тут идти некуда – тут горы…»
– А дорога эта куда ведет?
– Дорога-то? Идет она к Небельштейну.
– Что это такое – Небельштейн?
– А вот та гора, это и есть Небельштейн. Там был замок баронов фон Небельштейнов, а теперь от него почти ничего и не осталось.
– И никто не живет там?
– А кто его знает! Старик там какой-то, пожалуй, даже и два старика, только их почти никто никогда не видит, да и неведомо, кто такие те старики… Думать о них совсем не след – еще неравно беду на себя какую накличешь… Колдуны там живут – вот что! Чертовщина всякая творится в старом замке…
И горец так сумеет напугать вовсе не робкого студента, что тот уложит в сумку свою храбрость, свою жажду приключений и любовь к неизвестному – и повернет с едва обозначенной, заросшей травою дороги в места менее дикие, более интересные, более заманчивые для молодого воображения.
Проходят годы. Все также тихо, пустынно и уединенно вокруг Небельштейна. Умерли старики колдуны или нет? Как живут они там, отрешенные от всего мира? Или, может, их нет совсем и существуют они только в воображении горцев?
Нет, по-прежнему развалины старого замка обитаемы. Если бы студент, смущенный горцем, все же решился бы взобраться на вершину Небельштейна, то он увидел бы, что и сама дорога, чем ближе к вершине, становится все лучше и лучше, он увидел бы на одном из лесных поворотов, перед собою, чрезвычайно оригинальную и красивую картину старого замка, со всех сторон обросшего елями и густым кустарником, высеченного в скале, и то там, то здесь выглядывающего то древней бойницей, то округлостью колонны, то готическими, узорными, будто кружевными, окнами. В часы тихой глухой ночи он заметил бы то там, то здесь струйку неверного, мерцающего света, исходящую из почти совсем закрытых зеленью окон…
Впрочем, только это и мог бы он увидеть, так как если бы захотел проникнуть в самый замок, то это никак не могло ему удаться. Сколько бы ни стучался он в глухо запертые старые железные двери – никто не откликнулся бы на стук его.
Для того чтобы узнать, что такое происходит в замке и кто его обитатели, надо было выломать эти двери, а такая работа была бы не под силу и нескольким крепким людям, да никто ни о чем подобном и не думал…
Но, видно, и у старых колдунов старого замка бывают иной раз гости. Вот тихим, но холодным вечером какой-то всадник приближается по заросшей дороге к замку Небельштейну. Бодрый конь, видимо, притомился – немало часов везет он всадника, все вперед и вперед, по лесам и горам, поднимаясь выше и выше. И всадник, должно быть, хорошо знаком с местностью: не смущают его никакие препятствия, не останавливается он, а только объезжает извилистыми тропинками встречные селения, чтобы с кем-нибудь не встретиться.
Последнее человеческое жилье осталось позади. Скоро полная темнота окутает горы, а всадник и не думает об этом. Темнота застигла его в лесу, но он уверенной рукой направляет своего коня и, наконец, поднимается к самому замку. Он подносит ко рту свисток, и пронзительный, какой-то странный, необычный свист оглашает пустынную окрестность.
Раз, два и три – три раза звонкие, вызывающие звуки прорезали застывший ночной воздух, проникли всюду, и вот среди нависших еловых ветвей, дикого кустарника и густых, засохших уже, по времени года, вьющихся растений мелькнул свет. Послышался лязг и скрип отворявшейся тяжелой железной двери. На пороге этой двери появился с фонарем в руке сгорбившийся старик с длинной седой бородою. Он приподнял руку к глазам, заглядывая во мрак.
– Добро пожаловать, господин! – воскликнул он старческим, но еще бодрым голосом. – Добро пожаловать! Час уже поздний, немного осталось часовой стрелке пройти до полуночи, до полуночи великого нынешнего дня!
– Здравствуйте, друг мой Бергман! – ответил всадник, спрыгивая с коня. – Напрасно боялись вы, что я не приеду.
– Не боялся я… – как-то нерешительно проговорил старик, – а только… только час уже поздний! Дайте-ка лошадь, я проведу ее на конюшню, а сами берите фонарь и идите прямо, знаете куда, они уже в сборе. С утра уже в сборе… и все ждут вас.
Всадник передал старику коня, принял из рук его фонарь и вошел в дверь. Когда свет от фонаря озарил лицо его, в этом таинственном посетителе старого замка легко было узнать Захарьева-Овинова.
Он поднялся по знакомой ему узкой каменной лестнице и невольно остановился. Целый рой воспоминаний нахлынул на него в этих старых вековых стенах, где провел он самое знаменательное время своей жизни. Сердце его как-то защемило, едва слышный вздох вылетел из груди его. Но вдруг он выпрямился, поднял голову и твердой поступью пошел вперед по длинному сырому коридору, где гулко раздавались его шаги.
Вот небольшая дверь в глубине коридора. Он повернул ручку, отворил дверь и вошел. И снова рой старых воспоминаний как будто бы налетел на него, охватил его со всех сторон и стал добираться до его сердца. Но это было одно мгновение.
Он сбросил свой плащ, свою шляпу и спешным шагом направился в глубину обширной, слабо озаренной комнаты. Четверо людей поднялись ему навстречу, но он уже был у старого высокого кресла, в котором сидел величественного вида старец. Он склонился с сыновним благоговением к руке этого старца, крепко ее целуя.
– Привет тебе, сын мой! – раздался над ним знакомый голос, и этот голос теплою волною пробежал по всему его существу.
Он поднял голову, их взоры встретились, и несколько мгновений они остались оба неподвижными в крепком объятии друг у друга.
Наконец Захарьев-Овинов также крепко обнялся и с четырьмя присутствовавшими лицами.
– Отец! – затем сказал он. – Братья мои! Извините меня, если я заставил себя ждать. Я сделал, что мог… да и, наконец, сегодняшний день еще в нашем распоряжении.
– Нет, – произнес старец, – тебе не в чем извиняться. Мы тебя ждали, твердо зная, что если ты жив, то явишься ныне раньше полуночи… и ничто нам не указывало на то, что тебя нет в живых. Садись на свое место.
И он указал ему своей тонкой, иссохшей рукой на кожаное кресло рядом с собою.
Захарьев-Овинов сел, и еще раз его быстрый, блестевший взгляд остановился на этих дружественных лицах, озаряемых светом большой лампы, поставленной на стол.
Да, все в сборе. Вот маленький француз Роже Левек, все с теми же ясными голубыми глазами, все с той же глубокой морщиной, пересекающей лоб. Он, как и всегда, в своей темной и скромной одежде, в которой, наверно, недавно еще можно было его видеть в Париже, на левом берегу Сены, в его запыленной лавочке букиниста. Рядом с ним важный, величественный барон Отто фон Мелленбург. По другую сторону стола профессор Иоганн Абельзон, крошечный, юркий, проворный и привычно то и дело вертящийся на своем кресле и сверкающий могучими, так и проникающими в глубь души глазами. Вот и старый граф Хоростовский, почти неестественно тощий, с тонкими ввалившимися губами, с беспокойным и умным выражением старческих слезящихся глаз.
Все в сборе, все сразу кажутся такими же, какими были они в последнее годичное заседание, в этой же самой комнате, а между тем Захарьев-Овинов видел в них большую перемену. Перемена была и в прекрасном старце. Он как будто осунулся и, не изменявшийся долгие годы, будто сразу постарел.
На всех лицах была заметна как бы тень печали.
XV
Захарьев-Овинов откинул голову на спинку кресла. Вся его поза указывала на некоторое утомление. Он испытующим, невеселым взглядом обводил присутствовавших.
Старый Ганс фон Небельштейн вынул из кармана маленький золотой ящичек, открыл его и протянул Захарьеву-Овинову. Тот молча взял из ящичка кусок какого-то темного вещества и положил его себе в рот. Между тем старец говорил:
– Прими, мой сын, это угощение. По счастию, для подкрепления человеческих сил после долгого пути, для уничтожения чувства усталости, голода и жажды нам не надо накрывать на стол, подавать всякие кушанья, приготовленные из мяса убитых животных, и вина, действие которых так или иначе, в большей или меньшей степени, а все же всегда нездорово и нежелательно отзывается на человеческом организме. Мы можем ограничиться маленьким кусочком этого чудесного темного вещества, заключающего в себе чистейшую эссенцию лучших целебных и могучих произведений природы. Если тебе недостаточно одного кусочка – возьми еще. В моей лаборатории только что изготовлен свежий запас этой чудной пищи, поддерживающей мои старые силы.
Но Захарьев-Овинов отрицательно покачал головою. Он ухе чувствовал во всем теле свежесть и бодрость, как будто не ехал весь день и весь вечер верхом, почти не останавливаясь, как будто не провел более суток безо всякого питья и пищи. О, если б вместе с этою бодростью и свежестью тела маленький, ароматный кусочек, таявший теперь на языке его, мог наполнить и сердце его такою же бодростью, вернуть ясность и спокойствие душе его!.. Но душа его оставалась неспокойной, и тоска сжимала сердце.
– Отец, – медленно сказал он, – этой пищи даже слишком достаточно для моего тела, но дух мой смущен, и такое же точно смущение замечаю я и в тебе, и в братьях. Недавно, в дороге, занялся я комбинациями чисел и знаков, вспомнил твои первые уроки, данные мне здесь, в этой комнате, за этим столом. В результате моей работы оказалось нечто, не совсем для меня понятное, ибо, как всем нам известно, каждая работа с числами и знаками приводит к ясному выводу только тогда, когда мы можем подписать его с помощью нашего разума. Мой же разум в последнее время иногда останавливается и говорить не хочет. Но я знаю, и вы, конечно, это знаете, что нынешний день не походит на прежние подобные дни, что он имеет особенное, исключительное значение в нашей общей жизни, в деле, которому мы служим, быть может, и в целой судьбе человеческого знания. Вот это все мне сказал мой разум, это все я еще яснее понимаю теперь, глядя на вас…
Ганс фон Небельштейн опустил свою прекрасную старческую голову и в то же время глаза его грустно и пытливо глядели на Захарьева-Овинова.
– Великий брат! – воскликнул Абельзон. – Ты продолжаешь наш разговор, прерванный твоим появлением. Мы именно остановились на том, что ты сейчас высказал. Мы все знаем и чувствуем то, что ты знаешь и чувствуешь, и мы спрашивали нашего отца, что это значит? Ты вошел – он не успел нам ответить. Теперь, отец, когда к вопросу нашему присоединился и носитель знака Креста и Розы, прерви свое молчание, открой нам то, предчувствие чего нас всех так тревожит!