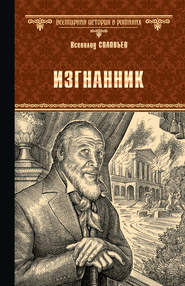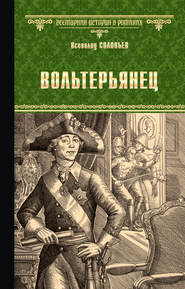По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Княжна Острожская
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гальшка уже не плакала. Обессиленная и счастливая, она неподвижно сидела, прижавшись к плечу его, погруженная как будто в дремоту.
Сангушко начинал мало-помалу соображать, что эти минуты в полутемном гроте с тихо журчащей струйкой воды не могут продолжаться. Того и гляди войдет кто-нибудь из гостей. Исчезновение Гальшки из зала, наверное, было всеми замечено, наверное, ее уже ищут, и их продолжительное отсутствие, прогулка вдвоем Бог знает где сейчас же возбудят сплетни и, во всяком случае, покажутся неприличными.
Нужно как можно скорее вернуться в зал. Нужно показаться совсем спокойными. Нужно притворяться, тщательно скрывать ото всех свое счастье…
Это притворство, это скрывание казались ему тяжелы невыносимо. Уходить от Гальшки, оставлять ее, не глядеть на нее, говорить с другими – да разве это возможно! Он решился сейчас же помимо всех приличий и обычаев переговорить с князем Константином Константиновичем, сказать ему все и просить у него руку Гальшки. К тому же, казалось, что он будет спокойнее, когда все станет известно князю Константину, в согласии которого он не сомневался.
Нужно идти. Ему хотелось еще раз обнять Гальшку, но какое-то инстинктивное чувство остановило его. Он уже владел собою и всякая горячая ласка теперь, в этой обстановке, когда еще ни Острожский, ни княгиня Беата ничего не знают, казалась ему профанацией его чистого, благоговейного отношения к невесте.
Он нежно отстранил Гальшку и поднялся с места.
Она тоже очнулась. Она в смущении взглянула на него и зарделась ярким румянцем.
– Князь… Дмитрий Андреевич… это правда?! – прошептала она.
– Пойдем, моя дорогая… успокойся…Я отыщу князя Константина, я скажу ему, что ты хочешь быть моей женой. Ведь да? Ведь ты согласна?..
– Дядя! да, иди к нему, скажи ему… скажи ему, что я люблю тебя… Мне самой к нему хочется… он так любит меня, он так будет рад за меня. Я его знаю, моего дорогого, доброго дядю. Но теперь, сейчас – этот шум, эти гости – я бы убежала от них подальше…
Они сделали шаг к выходу из грота. Перед ними бледный, смущенный, с отчаянный и виноватым выражением в лице, стоял Федя.
А Он кончил свой танец с Зосей. Он всюду искал глазами Гальшку и нигде ее не видел. Рассеянно спустился он в сад, ушел от толпы и нечаянно набрел на маленький грот. Он слышал последнюю фразу Гальшки, видел ее со своим князем, видел, как они смотрели друга на друга, и вдруг как будто что ударило его в сердце – он понял все. Он понял, что чуждые друг другу люди никогда так не смотрят в глаза один другому…
Еще день, один только день тому назад, он бы всей своей преданной душой радовался за горячо любимого покровителя. Отчего же теперь не радость, а тоска смертная охватила его, и он вдруг почувствовал себя самым несчастным, самым погибшим человеком?..
А между тем, князь и Гальшка, узнав его, успокоительно переглянулись. Сангушко еще незадолго до этого указал ей Федю в зале и рассказал про него.
Она улыбнулась юноше своей чудной улыбкой.
– Я знаю тебя, Федя, – сказала она. – Я очень рада тебя видеть. Князь рассказывал мне, как ты его любишь и как ты спас его в Сорочах.
Федя молчал. Он не был в силах говорить в эту минуту. Ему показалось, что его грудь разрывается на части.
Гальшка заслышала чьи-то приближавшиеся шаги. Она пугливо прислушалась и, не отдавая себе отчета в своих действиях, быстро повернула к крутому извиву садовой дорожки.
С другой стороны показалось несколько человек гостей, весело и громко болтавших. Они узнали князя Сангушку и, почтительно обойдя его, прошли мимо.
Князь и Федя были одни.
– Федя, что с тобою? – спросил князь, ласково кладя свою руку на плечо юноши. – Отчего ты так смущен? Отчего ты не глядишь на меня? Ты что-нибудь слышал – говори!
– Да, я тебя знаю, негодный! – еще ласковей в обаянии своего счастья, в страстном желании поделиться им с близким человеком, продолжал князь, – ну, уж не хочу на тебя сердиться. Слушай – я тебе первому поведаю… Слушай…я женюсь скоро, княжна Елена – моя невеста…Только тише…до поры до времени ни гу-гу…никому; как есть никому – понимаешь?.. Ну, что же ты меня не поздравляешь?.. Разве ты не рад?.. обними же меня, мой добрый мальчик.
Федя бросился на шею князя и неудержимо, как малый ребенок, залился горькими, отчаянными слезами. Удивленный Сангушко не знал что и подумать. Он постарался его успокоить и спешил в замок разыскивать в толпе князя Константина, В другое время он очень заинтересовался бы слезами Феди, которого знал за далеко не слезливого юношу; он, может быть, даже отгадал бы истинную причину этих слез. Но теперь он был до того поглощен своим счастьем, что весь мир не существовал для него. Через минуту он уже и не думал о слезах Феди, совсем даже забыл их…
Пир продолжался. В просторных столовых делались приготовления к обильному ужину. Группы мужчин, не принимавших участия в танцах, с раскрасневшимися лицами и расстегнутыми кафтанами весело и шумно болтали и в то же время с явным любопытством и нетерпением посматривали в двери, откуда нарядная прислуга вносила кушанья и вина.
Князь Константин, уставший и недовольный своими наблюдениями, окруженный влиятельными магнатами, толковал о предстоящем сейме. Порою он недоверчиво взглядывал на графа Гурку, который был тут же и, почтительно выслушивая князя, каждую его фразу сопровождал одобрительным кивком головы или льстивым восклицанием.
Сангушко, долго искавший хозяина, обрадовался, заметив его, и тотчас подошел к говорившим. Речь шла о предмете, близком его сердцу и до сих пор его чрезвычайно волновавшим. Еще на днях он решил, что нужно серьезно и обстоятельно переговорить с князем Острожским о делах литовских, действовать с ним заодно и руководиться его советами. Он вспомнил, что хотел сообщить князю о своем решении учредить в многолюдных Сорочах, бывших его любимой резиденцией, русскую школу, а, если можно, то и типографию; хотел просить князя помочь ему в выборе учителей для этой школы и указать мастеров типографского дела… Он и теперь постарался вслушаться в разговор, в горячие доводы князя Константина. Но он был удивительно рассеян и даже едва ответил на какой-то вопрос, ему предложенный. Ему вдруг показалось, что все эти дела, такие существенные и настоятельные, теряют для него свое прежнее значение. У него было только одно теперь дело, и от успеха этого дела зависела вся дальнейшая жизнь его.
Он улучил удобное мгновение и шепнул князю Константину, что ему нужно поговорить с ним, наедине и немедленно.
Князь с удивлением взглянул на Сангушку. Что за дело такое? Лицо крестника выказывало все признаки сильного волнения. И он, воспользовавшись первой возможностью прервать разговор, положил свою руку на плечо Сангушки и вышел с ним из комнаты.
Они прошли целую анфиладу освещенных и людных покоев и вышли на слабо озаренную матовым фонарем веранду. Тут никого не было.
– Ну, говори, что такое вдруг так загорелось? – с недоумением спросил Острожский.
Князь Дмитрий Андреевич не знал как и начать. Это объяснение несколько минут тому назад казалось ему таким простым, легким. Теперь же вдруг появилась мысль о возможности отказа со стороны князя Константина. К тому же его строгое и вдобавок еще утомленное и недовольное лицо не располагало к нежной откровенности.
– Да не мямли ты, ради Христа, крестник! – раздражительно торопил князь. – С утра уж я замечаю, что с тобой неладное что-то – ну так и говори все прямо и по ряду…
Сангушко тряхнул кудрями и открыто взглянул в глаза крестному. Чего ему было, в самом деле, робеть этого грозного человека, перед которым все трепещут? Он пришел не за худым делом. Он пришел за своим счастьем, на которое имел полное право.
– Князь, – сказал он, – не откажи мне в своем благословении. Я и княжна Елена любим друг друга…
Константин Константинович никак не «ожидал такого объяснения. Оно отвечало его душевным желаниям, но его, как человека старых нравов и обычаев, невольно смутила его форма. Он сдвинул свои густые брови.
– А ты как это знаешь, что Гальшка тебя любит? Видно, отец учил, да мало… Вот какое нынче время! Литовским князьям трудно и посвататься по дедовскому обычаю! Они теперь плевать хотят на опекунов и родителей… Им с руки смеяться над стыдом и честью девичьей…
Сангушко весь вспыхнул. Гнев подступал ему к сердцу и душил его.
– Замолчи, князь, замолчи, ради Бога! – вскричал он, хватая за руку Острожского. – Тебе, как отцу крестному, как другу отца моего, я позволяю бранить меня сколько душе твоей угодно. Но оскорблять меня я и тебе не возволю. (так – Д.Т)
– А меня оскорблять, оскорблять мою племянницу ты можешь? – сдержанно проговорил князь, тоже краснея.
– Я люблю Гальшку, я жизнь готов отдать за нее – где же тут оскорбление?
– А вот где, – еще сдержаннее продолжал князь Константин Константинович. – До сих пор мы, литвины, пуще глазу берегли честь и стыдливость дочерей наших. Снаряжая невесту под венец, мы знали, что она войдет в дом мужа непорочною даже в своих помыслах, сохраненною от всяких соблазнов. Человек, честно искавший руки нашей дочери, приходил к нам за согласием и, если мы давали его, то он лишь тогда сближался с невестой, да и то на глазах наших. Брак – дело Божие, и к нему надо относиться свято, надо в чистоте душевной приступать к великому таинству. Постой, не перебивай меня… Вот ты говоришь, что Гальшка тебя любит. Значит, ты сам говорил с ней о любви, сам смущал ее, просил ответить. Тебе и не жалко было ее чистоты и невинности!
Да взгляни на нее – ведь она еще почти ребенок. Она доверчиво тебе ответила… и поверю ли я, что за этот ответ, если только была возможность, если кругом никого не было, ты не поцеловал ее?.. Ну, а если я, ну, а если ее мать, у которой над нею больше прав, чем у меня, не захочет ее отдать за тебя? Если сама Гальшка поплачет да и успокоится, и поймет, что ошиблась в себе – ведь она тогда во всю жизнь не смоет с себя твоего поцелуя…
Сангушко сам был воспитан в подобных взглядах, и они не показались ему ложными.
– Прости меня, князь, – сказал он, – быть может, я точно не прав; но уж дурного умысла во мне не было. Я просто не мог разбирать, не мог владеть собою… Да и то скажу тебе: мой поцелуй не опозорит Гальшки – я твердо верю, сердце говорит мне, что ни мне, ни ей не идти под венец с другими…
– А коли так – зачем же ты и пришел ко мне? – все еще с суровой миной, но уже внутренно смягчаясь, заметил князь. – Ну и решайте промеж себя все дело – пожалуй, хоть на свадьбу не зовите…
Сангушко понял, что гроза миновала.
– Преложи гнев на милость! – радостно улыбаясь, протянул он к князю руки.
– Что уж с тобой делать – теперь некому на тебя жаловаться, – просветлев взором и обнимая его, сказал Острожский. – А уж покойник батюшка задал бы тебе гонку. Только вот что я скажу тебе, крестник. Гальшка мне как дочь родная и расстаться мне с ней трудно; но уж коли отдавать ее кому, так, по крайности, своему православному литвину. Я твоему делу противиться не стану… Но ведь я не отец ей… иди, говори с матерью…
В тоне этих последних слов Сангушке послышалось что-то, что заставило его тревожно вздрогнуть.
– Князь, скажи мне по душе, – быстро спросил он, – неужели мне нужно бояться отказа княгини Беаты Андреевны? Я ее так мало знаю, да кто ее, кроме тебя, и знает хорошенько…