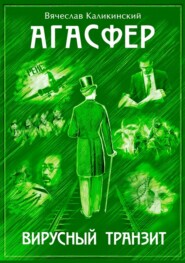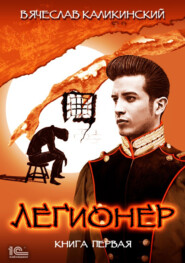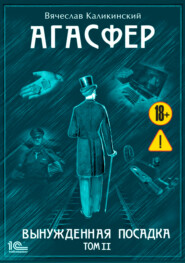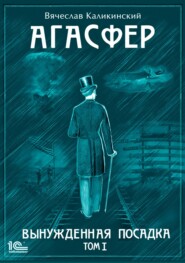По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Легионер. Книга третья
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чего воешь, сволош? Проиграл – и иди себе домой, к свой баба. Или Пазульского разбудить хочешь? Разбудишь – совсем по-другому выть станешь. Ступай вон, кому сказал?!
– Так ён же без порток, Бабай! – хохотнули с верхних нар. – Как ему по посту идтить-то?
– Мой какой дело? Его никто сюда не звал. Штаны, халат надо – пусть покупает.
– На что покупать-то? – всхлипнул мужик. – Обувку – и ту отобрали, даром что подметки совсем отвалились. Слышь, Бабай, я тебе курицу принесу, вот те крест! Соседу в ноги упаду, он зажиточный. А то украду где-нито. Ты ж меня знаешь, не сбегу никуда с Сахалина ентого. А, Бабай? А ты мне штаны какие-нибудь и рубашку, а?
– Много вас тут шастает, штанов на всех у меня нету, – покачал головой майданщик. – И тебя я знай. Штаны возьмешь – и тут же на кон поставишь. Не дам!
Майданщика окликнули из темноты коридора, и тот заспешил на зов: просыпался Пазульский.
Для жизни на покое Пазульский, как уже упоминалось, выбрал один из четырех нумеров каторжной тюрьмы, поселившись там с пятью самыми верными дружками и телохранителями. Остальные две с лишком сотни испытуемых без ропота разместились в трех оставшихся нумерах.
Камеру, по повелению Пазульского, арестанты благоустроили как могли. Навесили дверь (остальные номера таковых по тюремному уставу не имели), прорубили окно. Лишний ряд двухъярусные нар Пазульский выбрасывать почему-то не велел. И часто прогуливался по своему номеру, перебирая руками стойки нар.
Изредка он выходил из своей камеры в длинной, ниже колен рубахе серого холста и таких же серых чистых портках, в неизменных обрезанных валенках, по непогоде дополняемых галошами, с посохом в руках. Гулял Пазульский всегда в одиночестве: приближаться к нему никто не смел, разве что сам покличет кого. В таком виде, с длинными седыми прядями и белоснежной длинной бородой, он поразительно походил на некоего библейского пророка, снизошедшего на грешную землю.
В то утро, 14 июня 1880 года, Пазульский проснулся, как всегда, в девятом часу утра. Без кряхтений, стонов и обычного для каторжников сквернословия открыл глаза, повернулся и не спеша сел на кровать, мастерски врезанную в нары. Захоти он – и сюда бы притащили настоящую кровать, хоть купеческую, с пологом и перинами, никто бы и слова не сказал. Но Пазульский велел сделать именно так – и сделали.
Стороживший каждое движение патриарха каторги глухонемой Гнат, состоявший при Пазульском в услужении еще с молодости, соскользнул с нар, выглянул в коридор, пихнул первого попавшегося арестанта, жестом велел позвать майданщика. А сам поспешил обратно, подхватив по дороге кувшин с водой для умывания и лоханью.
А там и майданщик Бабай подоспел с кринкой молока и теплой белой сайкой, завернутой в чистую тряпицу. Пазульский, не глядя, протянул руку, долго мял белый хлеб беззубыми деснами, запивал молоком. Бабай стоял рядом по-солдатски, не шевелясь и молча: вдруг Пазульскому чего понадобится еще? Такое редко, но случалось, а ждать патриарх каторги не любил.
– Ну, рассказывай, – наконец открыл рот Пазульский. Закончив завтрак, он желал услышать каторжные новости.
Нынче главной новостью Сахалина – и вольного народонаселения, и арестантов – было прибытие «с России» парохода, «Нижнего Новгорода». Пароход, правда, еще только стоял на рейде у поста Корсаковского, но на Сахалине телеграф уже действовал, и новость о пароходе по проводам исправно прилетела в островную столицу.
– Значит, новые души-страдальцы в нашу островную обитель прибыли, – понятливо кивнул Пазульский. – «Нижний Новгород», говоришь? Что-то я слышал насчет этого «Новгорода», от кого только, дай бог памяти… Покличь-ка мне Архипа, Бабай!
– Слушаюсь, уважаемый! Булошка унести? Или оставить прикажешь?
– Оставь. Сегодня погоды вроде приятные, выйду потом, птах покормлю. А ты ступай…
– Публика в новом сплаве плывет как публика, обнакновенная, – докладывал вскоре вызванный к Пазульскому бессрочный каторжник Архип, наперечет знавший по именам и кличкам почти всех иванов России. – Галетники, одно слово.
Галетниками на сахалинской каторге презрительно именовали каторжан, попадавших сюда пароходами. «Настоящими» каторжанами, по разумению местных обитателей, считались лишь те, кто «измерил Расеюшку» ногами, прозвенел кандалами через необъятные сибирские просторы, прошел через ад печально известной Карийской каторги.
– Канешно, и среди галетников стоящие людишки водятся! – спохватился Архип. – Люди баили ишшо прошлой осенью, что с пересылок собирают на нынешний весенний сплав многих страдальцев истинных.
Загибая корявые пальцы, Архип начал быстро перечислять Пазульскому клички иванов, которых должен был доставить на Сахалин «Нижний Новгород».
– И Барин, уважаемый, непременно должен из Псковского централа прибыть, – со значением закончил свой перечень Архип.
Пазульский кивнул:
– Слышал, как же. Из благородных он вроде. И несколько душ не токмо в Псковском централе, но и в Петербургском тюремном Литовском замке загубил. Из офицеров он?
– Все ты помнишь, уважаемый! – восхитился Архип. – Точно! Из охвицеров, баили, сволочь! Дык ён и во Пскове бузу поднял перед самым этапом, несколько наших положил. Силищи, грят, необнакновенной тот Барин.
Пазульский усмехнулся, коротко взглянул на Архипа:
– Чего же ты за глаза сволочишь человека, Архип? Только за то, что благородное происхождение имеет? Так ведь и про меня говорят, что не простого роду-племени Пазульский. А?
Архип сжался, похолодел: хоть и не было злости в голосе патриарха, однако ясно было, что зазря он, Архип, неуважительно об арестанте из благородных отозвался. И примеры тому были – вот так же, негромко да ласково, Пазульский не раз и не два к лютой смерти людей приговаривал. А то и молча поглядит на немтыря своего Гната, тот неугодного тут же и придушит враз. И не вырвешься: лапы у немтыря нелюдской величины, лопату пальцами обхватить может.
– Извини, уважаемый, я со сна, должно, не то языком своим что ляпнул, – заюлил Архип. – А про тебя – что ты! Боже упаси! Про тебя плохо и подумать-то страшно, не то что сказать! Да и что сказать, коли ты всей каторге голова!
– Ладно тебе тарахтеть-то! – Пазульский отвернулся, сплюнул прилипшую к десне крошку. – Ступай, не трясись тут, Архип, не серчаю нынче я на тебя! Поживи покуда, горемычный…
Тот, кланяясь, рванулся к выходу, на ходу мелко крестя пупок: пронесло вроде. Ан нет: окликает патриарх:
– Слышь, Ахипушка, уважь старика…
– Слушаю, почтеннейший! – мигом остановился Архип, замер в ожидании приказаний.
А Пазульский не спешил, «вхолостую» жевал мелко беззубыми деснами, размышлял о чем-то, заботливо собирал с подола длинной рубахи хлебные крошки. Наконец, удумал:
– Пришли-ка мне, Архип, попроворней кого… Хоть бы и Кукиша… Поищи, будь добр!
– Сей момент, с-под земли Кукиша предоставлю, почтеннейший! – с тем Архип и был таков.
Но «сей момент» не получилось: Кукиша в нумерах не оказалось. Проклиная все и вся, Архип искал проклятого Кукиша везде, пока случайно не столкнулся с ним в карантинном помещении другого тюремного здания.
* * *
В канун прибытия «Нижнего Новгорода» в Дуэ карантин для новоприбывших арестантов являл собой человеческий муравейник. Там царило суетливое оживление. Смотрители тюрем, обычно не озабоченные санитарным состоянием камер и самих тюрем, к прибытию каждого парохода с новым сплавом карантин, по неписанной традиции, приводили в «божеское» состояние. Плотники из числа арестантов посылались наскоро заменить самые гнилые доски и стойки нар, уборщики отскребали с полов часть вековой грязи и непременно натаскивали в карантинное отделение уйму еловых лап, разбрасывая их для «хорошего духа» под нары и на них.
Известие о прибытии парохода с новичками вносило радостное оживление и в нумера Дуйской и Александровской каторжных тюрем. Почти все каторжане, за исключением разве что самых забитых «поднарников», предвкушали скорую разживу за счет новоприбывших. А наиболее отчаянные глоты, стремясь поспеть к разживе первыми, не упускали случая заранее спрятаться в карантине под нарами – чтобы успеть прежде прочих «остричь шерсть» с новичков.
Уловка была старой, всем знакомой, и поэтому надсмотрщик Ерофей Павлович Симеонов, доложив начальству о готовности карантина к заселению новоприбывшими, решил все же самолично обойти все помещения и потыкать длинной палкой с нарочно вбитым гвоздем во все подозрительные груды лапника – больше в камерах карантина спрятаться было просто негде.
Сопровождающий Симеонова староста отделения суетливо бежал впереди, с негодованием отбрасывал ногой с пути начальства мусор и кусочки лапника, поминутно оглядывался и всем своим видом показывал готовность услужить.
– Так что, ваш-бродь, наши-то оглоеды все вроде на месте. Да и я туточки в оба глаза глядел, когда лапник-то заносили. Самолично! Не должно тут непорядку быть, ваш-бродь!
– «Не должно, не должно»! – передразнил старосту Симеонов. – А найду кого в карантине?
Кряхтя, надзиратель согнул спину и ткнул палкою в кучу елового лапника под нарами, откуда тут же послышался сдавленный вопль.
– Самолично, говоришь?! – надзиратель грозно и с торжеством поглядел на старосту. – А тут кто? Эй, морда! А ну-ка, вылазь на свет божий! Вылазь, говорю, пока не стрельнул!
Лапник под нарами зашевелился, и к ногам надзирателя выполз полуголый человек, едва прикрытый какой-то рваниной. Опасливо поглядывая на подбоченившееся начальство, человек судорожно поправил сползающие с тела тряпки и скорчил жалостливую гримасу:
– Так что заснул я под нарами, ваш-бродь! С устатку и по нечаянности…
– Кто таков?
– Так это ж Кукиш, ваш-бродь! Ён не в своем уме маненько, дело известное! – поспешил с ответом староста. И, оборотившись к арестанту, грозно добавил: – Я т-тебе, сволочь, покажу кузькину мать! Прятаться удумал, паскуда!
– Так ён же без порток, Бабай! – хохотнули с верхних нар. – Как ему по посту идтить-то?
– Мой какой дело? Его никто сюда не звал. Штаны, халат надо – пусть покупает.
– На что покупать-то? – всхлипнул мужик. – Обувку – и ту отобрали, даром что подметки совсем отвалились. Слышь, Бабай, я тебе курицу принесу, вот те крест! Соседу в ноги упаду, он зажиточный. А то украду где-нито. Ты ж меня знаешь, не сбегу никуда с Сахалина ентого. А, Бабай? А ты мне штаны какие-нибудь и рубашку, а?
– Много вас тут шастает, штанов на всех у меня нету, – покачал головой майданщик. – И тебя я знай. Штаны возьмешь – и тут же на кон поставишь. Не дам!
Майданщика окликнули из темноты коридора, и тот заспешил на зов: просыпался Пазульский.
Для жизни на покое Пазульский, как уже упоминалось, выбрал один из четырех нумеров каторжной тюрьмы, поселившись там с пятью самыми верными дружками и телохранителями. Остальные две с лишком сотни испытуемых без ропота разместились в трех оставшихся нумерах.
Камеру, по повелению Пазульского, арестанты благоустроили как могли. Навесили дверь (остальные номера таковых по тюремному уставу не имели), прорубили окно. Лишний ряд двухъярусные нар Пазульский выбрасывать почему-то не велел. И часто прогуливался по своему номеру, перебирая руками стойки нар.
Изредка он выходил из своей камеры в длинной, ниже колен рубахе серого холста и таких же серых чистых портках, в неизменных обрезанных валенках, по непогоде дополняемых галошами, с посохом в руках. Гулял Пазульский всегда в одиночестве: приближаться к нему никто не смел, разве что сам покличет кого. В таком виде, с длинными седыми прядями и белоснежной длинной бородой, он поразительно походил на некоего библейского пророка, снизошедшего на грешную землю.
В то утро, 14 июня 1880 года, Пазульский проснулся, как всегда, в девятом часу утра. Без кряхтений, стонов и обычного для каторжников сквернословия открыл глаза, повернулся и не спеша сел на кровать, мастерски врезанную в нары. Захоти он – и сюда бы притащили настоящую кровать, хоть купеческую, с пологом и перинами, никто бы и слова не сказал. Но Пазульский велел сделать именно так – и сделали.
Стороживший каждое движение патриарха каторги глухонемой Гнат, состоявший при Пазульском в услужении еще с молодости, соскользнул с нар, выглянул в коридор, пихнул первого попавшегося арестанта, жестом велел позвать майданщика. А сам поспешил обратно, подхватив по дороге кувшин с водой для умывания и лоханью.
А там и майданщик Бабай подоспел с кринкой молока и теплой белой сайкой, завернутой в чистую тряпицу. Пазульский, не глядя, протянул руку, долго мял белый хлеб беззубыми деснами, запивал молоком. Бабай стоял рядом по-солдатски, не шевелясь и молча: вдруг Пазульскому чего понадобится еще? Такое редко, но случалось, а ждать патриарх каторги не любил.
– Ну, рассказывай, – наконец открыл рот Пазульский. Закончив завтрак, он желал услышать каторжные новости.
Нынче главной новостью Сахалина – и вольного народонаселения, и арестантов – было прибытие «с России» парохода, «Нижнего Новгорода». Пароход, правда, еще только стоял на рейде у поста Корсаковского, но на Сахалине телеграф уже действовал, и новость о пароходе по проводам исправно прилетела в островную столицу.
– Значит, новые души-страдальцы в нашу островную обитель прибыли, – понятливо кивнул Пазульский. – «Нижний Новгород», говоришь? Что-то я слышал насчет этого «Новгорода», от кого только, дай бог памяти… Покличь-ка мне Архипа, Бабай!
– Слушаюсь, уважаемый! Булошка унести? Или оставить прикажешь?
– Оставь. Сегодня погоды вроде приятные, выйду потом, птах покормлю. А ты ступай…
– Публика в новом сплаве плывет как публика, обнакновенная, – докладывал вскоре вызванный к Пазульскому бессрочный каторжник Архип, наперечет знавший по именам и кличкам почти всех иванов России. – Галетники, одно слово.
Галетниками на сахалинской каторге презрительно именовали каторжан, попадавших сюда пароходами. «Настоящими» каторжанами, по разумению местных обитателей, считались лишь те, кто «измерил Расеюшку» ногами, прозвенел кандалами через необъятные сибирские просторы, прошел через ад печально известной Карийской каторги.
– Канешно, и среди галетников стоящие людишки водятся! – спохватился Архип. – Люди баили ишшо прошлой осенью, что с пересылок собирают на нынешний весенний сплав многих страдальцев истинных.
Загибая корявые пальцы, Архип начал быстро перечислять Пазульскому клички иванов, которых должен был доставить на Сахалин «Нижний Новгород».
– И Барин, уважаемый, непременно должен из Псковского централа прибыть, – со значением закончил свой перечень Архип.
Пазульский кивнул:
– Слышал, как же. Из благородных он вроде. И несколько душ не токмо в Псковском централе, но и в Петербургском тюремном Литовском замке загубил. Из офицеров он?
– Все ты помнишь, уважаемый! – восхитился Архип. – Точно! Из охвицеров, баили, сволочь! Дык ён и во Пскове бузу поднял перед самым этапом, несколько наших положил. Силищи, грят, необнакновенной тот Барин.
Пазульский усмехнулся, коротко взглянул на Архипа:
– Чего же ты за глаза сволочишь человека, Архип? Только за то, что благородное происхождение имеет? Так ведь и про меня говорят, что не простого роду-племени Пазульский. А?
Архип сжался, похолодел: хоть и не было злости в голосе патриарха, однако ясно было, что зазря он, Архип, неуважительно об арестанте из благородных отозвался. И примеры тому были – вот так же, негромко да ласково, Пазульский не раз и не два к лютой смерти людей приговаривал. А то и молча поглядит на немтыря своего Гната, тот неугодного тут же и придушит враз. И не вырвешься: лапы у немтыря нелюдской величины, лопату пальцами обхватить может.
– Извини, уважаемый, я со сна, должно, не то языком своим что ляпнул, – заюлил Архип. – А про тебя – что ты! Боже упаси! Про тебя плохо и подумать-то страшно, не то что сказать! Да и что сказать, коли ты всей каторге голова!
– Ладно тебе тарахтеть-то! – Пазульский отвернулся, сплюнул прилипшую к десне крошку. – Ступай, не трясись тут, Архип, не серчаю нынче я на тебя! Поживи покуда, горемычный…
Тот, кланяясь, рванулся к выходу, на ходу мелко крестя пупок: пронесло вроде. Ан нет: окликает патриарх:
– Слышь, Ахипушка, уважь старика…
– Слушаю, почтеннейший! – мигом остановился Архип, замер в ожидании приказаний.
А Пазульский не спешил, «вхолостую» жевал мелко беззубыми деснами, размышлял о чем-то, заботливо собирал с подола длинной рубахи хлебные крошки. Наконец, удумал:
– Пришли-ка мне, Архип, попроворней кого… Хоть бы и Кукиша… Поищи, будь добр!
– Сей момент, с-под земли Кукиша предоставлю, почтеннейший! – с тем Архип и был таков.
Но «сей момент» не получилось: Кукиша в нумерах не оказалось. Проклиная все и вся, Архип искал проклятого Кукиша везде, пока случайно не столкнулся с ним в карантинном помещении другого тюремного здания.
* * *
В канун прибытия «Нижнего Новгорода» в Дуэ карантин для новоприбывших арестантов являл собой человеческий муравейник. Там царило суетливое оживление. Смотрители тюрем, обычно не озабоченные санитарным состоянием камер и самих тюрем, к прибытию каждого парохода с новым сплавом карантин, по неписанной традиции, приводили в «божеское» состояние. Плотники из числа арестантов посылались наскоро заменить самые гнилые доски и стойки нар, уборщики отскребали с полов часть вековой грязи и непременно натаскивали в карантинное отделение уйму еловых лап, разбрасывая их для «хорошего духа» под нары и на них.
Известие о прибытии парохода с новичками вносило радостное оживление и в нумера Дуйской и Александровской каторжных тюрем. Почти все каторжане, за исключением разве что самых забитых «поднарников», предвкушали скорую разживу за счет новоприбывших. А наиболее отчаянные глоты, стремясь поспеть к разживе первыми, не упускали случая заранее спрятаться в карантине под нарами – чтобы успеть прежде прочих «остричь шерсть» с новичков.
Уловка была старой, всем знакомой, и поэтому надсмотрщик Ерофей Павлович Симеонов, доложив начальству о готовности карантина к заселению новоприбывшими, решил все же самолично обойти все помещения и потыкать длинной палкой с нарочно вбитым гвоздем во все подозрительные груды лапника – больше в камерах карантина спрятаться было просто негде.
Сопровождающий Симеонова староста отделения суетливо бежал впереди, с негодованием отбрасывал ногой с пути начальства мусор и кусочки лапника, поминутно оглядывался и всем своим видом показывал готовность услужить.
– Так что, ваш-бродь, наши-то оглоеды все вроде на месте. Да и я туточки в оба глаза глядел, когда лапник-то заносили. Самолично! Не должно тут непорядку быть, ваш-бродь!
– «Не должно, не должно»! – передразнил старосту Симеонов. – А найду кого в карантине?
Кряхтя, надзиратель согнул спину и ткнул палкою в кучу елового лапника под нарами, откуда тут же послышался сдавленный вопль.
– Самолично, говоришь?! – надзиратель грозно и с торжеством поглядел на старосту. – А тут кто? Эй, морда! А ну-ка, вылазь на свет божий! Вылазь, говорю, пока не стрельнул!
Лапник под нарами зашевелился, и к ногам надзирателя выполз полуголый человек, едва прикрытый какой-то рваниной. Опасливо поглядывая на подбоченившееся начальство, человек судорожно поправил сползающие с тела тряпки и скорчил жалостливую гримасу:
– Так что заснул я под нарами, ваш-бродь! С устатку и по нечаянности…
– Кто таков?
– Так это ж Кукиш, ваш-бродь! Ён не в своем уме маненько, дело известное! – поспешил с ответом староста. И, оборотившись к арестанту, грозно добавил: – Я т-тебе, сволочь, покажу кузькину мать! Прятаться удумал, паскуда!