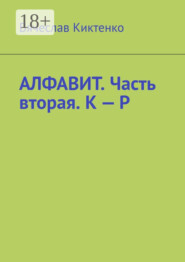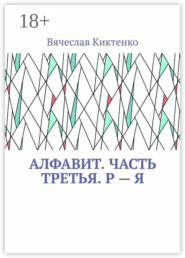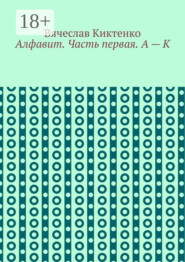По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Певчий Гад. Роман-идиот. Сага о Великом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это первая страница жизни, от которой в памяти навсегда остался едкий осадок, а в груди хронический кашель и навсегда надтреснутый хриплый голос «а-ля Высоцкий». Впрочем, причина хрипоты крылась ещё и в более раннем детстве. Но не всё сразу…
***
«Дом горел. Прибыл отряд.
С похмелья отряд строг.
«Никто не уйдёт. Все сгорят!» —
Красивый пожарник рек.
Добил бычок. Сказал вашу мать.
Пламень был чист. Бел.
Чёрный брандспойт. Жёлтая медь…
Красивый пожар был…»
(Из позднего Великого)
***
Тогда-то, раным-рано – после битвы с «огнетушителем» грязного винища, битвы с пожаром, битвы с папулей, битв на зоне – стал Великий осознавать шкурой, ещё не очень дублёной, что всё в этом мире – Битва. Видения надвинулись позже. И заслонили…
***
Перчатка-самолёт
Надвинулись и заслонили Великому жизнь извитые, как дым, видения. Самую ральную жизнь в её прямоте-простоте. Нахлынули мороки, миражи. Откуда нахлынули, Бог весть. Только затуманило глаз, зашумело в башке, во всём распахнутом миру существе такое что-то заворочалось, с чем нет и не может быть сладу.
Это потом он понял – его призвали. Не в армию, не в тюрьму, которых не избежал позже, в инстанцию посерьёзней. Верить не хотел, не стремился в эту инстанцию, и даже сопротивлялся поначалу.
Противление дало, вероятно, некоторый уродливый наклон в творчестве… но, несмотря ни на что, всю-то свою жизнёшечку подчинил он блуждающей Силе. Никем и никогда не понятой Силе. Творчеству.
И служил. Служил ей верно, до конца. Со всею истовостью, искренностью, прозорливостью. Несмотря ни на что…
***
Великий лукав. Дураковат, и даже не в меру. В последних классах школы двадцатилетний переросток, несколько лет потративший на подростковые колонии, вынужден был доучиваться с нами, пятнадцати-шестнадцатилетними. Он явно отличался от всех, как настоящий Неандерталец от кроманьонцев. И ненавидел халдейский глас, стоны, жесты педагогов. Первый написал стихотворное сочинение об ученических годах, поименовав его «Школьный вальс»:
«Мы в школу шагали,
А в школе шакалы,
Которые сделали нас ишаками,
Указками били, дерьмом нагружали,
Пасли, и над ухом дышали, дышали…»
***
Да, но ведь и я, сам тайный неандерталец (пока ещё тайный), стал поражать его самодельными стихами. Стихи были чудовищны и потому нравились Великому.
Особенно его поразило двустишие про нежную девочку, про невозможность красиво признаться ей в «красивых» чувствах, а потому под конец любовной эклоги раздавался там вопль:
«Мне покоя не даёт
Твой перчатка-самолёт!..»
Великий хохотал, как сумасшедший: сгибаясь, переламываясь в поясе, чуть ли не падая на сырой весенний тротуар, по которому шагали из школки после уроков…
А потом взял да насочинял про себя, заикающегося во пьянке:
«Мой приватный логопед
Как-то сел на лисапед,
В грязь упал, и напугался,
И захрюкал, как свинья…
Матюгался, заикался,
Стал такой же, как и я…
Ходим мы теперь вдвоём
К логопеду на приём…»
***
И обрывочек ещё:
«…и с тоски
Сел в такси…»
***
А я читал ему, читал на полном серьёзе другие стишки, и сам внутри хохотал.
Я прочитал ему эпос: «Про Корову, Таракана и Паровоз», где все три персонажа дружили, враждовали, стремились. Эпос венчался лирическим пассажем, где после столкновения коровы с паровозом вырисовывалась величественная степная картина:
«Лягушки квакают вдали
И Паровоз лежит в пыли…»