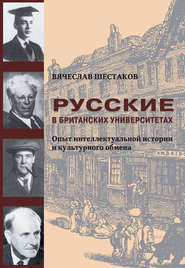По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Философская оттепель и падение догматического марксизма в России. Философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в воспоминаниях его выпускников
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Партийные чистки, аресты и расстрелы 1936–1938 гг. опустошили партийный аппарат, и для эпигонов открылись соответствующие возможности. Среди них тоже развивалась тайная и явная борьба за различные должности «наверху», включая и академические, переплетавшиеся с партийными. В этих интересах писались статьи, брошюры, трактовавшие мысли «классиков».
Вернувшись на факультет в 1943 г., я узнал о двух новых профессорах – Алексее Федоровиче Лосеве и Павле Сергеевиче Попове, которых я совершенно не знал, но впоследствии для меня многое прояснилось. Оказалось, что они появились на факультете благодаря Георгию Федоровичу Александрову, о котором я говорил выше. В 1940–1950-е гг. он сыграл немаловажную роль в философско-идеологической советской жизни, и я теперь вернусь к нему.
В аппарате ЦК ВКП(б) Александров сделал большую карьеру. Сталин провел его и в кандидаты ЦК, и, более того, вопреки уставу этого всесильного органа сделал его и членом Оргбюро (в принципе туда вводились только члены ЦК). Главным идеологом партии был А. А. Жданов, член Политбюро и одновременно первый секретарь Ленинградского горкома ВКП(б). Здесь в преддверии войны и должен был сосредоточиться преемник С. М. Кирова. Говорили, что он рекомендовал Сталину назначить Александрова начальником управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), что и произошло. Он стал теперь большой партийной фигурой, особенно в условиях войны, когда и члены Политбюро, и множество членов ЦК были втянуты в повседневные требования войны. Когда МИФЛИ в эвакуации оказался в Ашхабаде, его руководство (по-видимому И. С. Галкин, декан истфака МИФЛИ и ректор МГУ, когда он снова прибыл в Москву в 1943–1946 г.) обратилось к члену Оргбюро с вопросом, как им быть в эвакуации. Он распорядился влиться в МГУ им. М. В. Ломоносова, что там и произошло. Так здесь появились философский, филологический и экономический факультеты, а исторические слились.
Занятия на философском факультете в Москве начались в феврале 1942 г., когда немецкие войска были отогнаны довольно далеко. Преподавателей на нем (и на его отделении психологии) было крайне мало, но и студентов едва ли более трех десятков. Профессоров-философов тоже три-четыре (Б. С. Чернышев, З. Я. Белецкий, Г. М. Гак и, кажется, А. П. Гагарин). На отделении психологии примерно столько же. Тогдашний декан факультета Г. Г. Андреев, будучи в отделе пропаганды ЦК, говорил с Александровым о немногочисленности профессоров на факультете, особенно в перспективе умножения студентов, демобилизирующихся из армии по ранению, по болезни, не успевших окончить факультет до начала войны. Александров знал о Лосеве и Попове как об ученых с дореволюционным образованием, окончивших Московский университет, знал и об их тяжелых конфликтах с ГПУ в прошлом (о чем напишу в дальнейшем). Как политик, учитывающий некоторую идеологическую оттепель, кратковременно наступившую в результате неожиданных огромных поражений на фронте в первый период войны, а также речь Сталина на историческом параде 7 ноября 1941 г., содержавшую патриотическую тематику, Александров «выразил мнение» о привлечении на факультет дореволюционных русских профессоров с философским образованием. Такое «мнение» высокого начальника сообщил декану факультета Н. Г. Тараканов – подчиненный Александрова, окончивший философский факультет МИФЛИ. Так А. Ф. Лосев и П. С. Попов стали профессорами факультета. Первый опубликовал в 1920-е гг. восемь книг (за собственный счет), но все его довоенные попытки защитить докторскую диссертацию были безуспешны. Теперь Александров «выразил мнение», что столь солидный автор заслуживает присвоения степени доктора философских наук без формальной защиты. Совет принял к исполнению это «мнение», но проявил осторожность и присвоил ему степень доктора филологических наук (в сумятице военных лет такое было возможно).
В те годы в философской жизни факультета и Института философии АН СССР, которые, можно сказать, были сообщавшимися учреждениями, произошли события, имевшие немаловажное значение для философии, для идеологии и даже для политики. Важным для них событием послужила публикация трех томов «Истории философии» (1940–1943), в принципе необходимых не только для философского образования, но и для удовлетворения мировоззренческих интересов широкой публики. Такого рода книг, можно сказать, до этой публикации не было в советские времена, а солидные переводные книги (Виндельбанд, Фалькенберг и др.) найти было уже трудно. Для издания в трех томах был подобран квалифицированный в общем коллектив, а редакцию составили Александров, Быховский, Митин и Юдин. Двое последних никакого отношения к истории философии не имели, будучи, однако, членами Академии наук и занимая большие партийно-административные посты. Все три тома в 1943 г. получили Сталинскую премию первой степени. Прежде всего члены редакции – Александров, Митин и Юдин, которые не написали ни строчки и ничего не редактировали, будучи заняты на «ответственных постах», да они и не были компетентны в истории философии. Подлинным организатором и редактором, написавшим к тому же наибольшее количество текстов, был Бернард Эммануилович Быховский, сумевший получить филологическое и философское образование на грани революционных лет, а в советские времена весьма активный автор множества статей и нескольких книг. Александров тоже не участвовал в редактировании, но Быховский сократил верстку его диссертации, подготовленной к изданию, и она стала важнейшей главой античной части I тома. Кроме членов редколлегии еще шесть авторов (более чем из тридцати) стали лауреатами Сталинской премии первой степени.
Три этих тома, названные студентами «серыми лошадями» – по цвету обложки, десятилетиями служили учебным пособием для студентов философских факультетов. Лауреаты торжествовали и выдвинули двух наиболее компетентных профессоров, Асмуса и Быховского, в члены-корреспонденты Академии наук. Отделение философии и права утвердило их выдвижение. Спустя несколько лет один из лауреатов О. В. Трахтенберг (мой научный руководитель после смерти Б. Г. Чернышева) и Быховский как-то в случайном разговоре рассказали мне, что члены отделения, их утвердившие, были весьма удивлены, что общее собрание академии избрало членом-корреспондентом А. А. Максимова. Научный отдел ЦК ВКП(б) бдительно следил и за этой сферой и зорко соблюдал партийный контроль. Наверху знали, что Асмус глубоко беспартийный, по неясным основаниям пристегнутый к «меньшевиствующим идеалистам», а член партии Быховский в молодости как-то прислонился к троцкизму и получил выговор, не снимаемый до гроба. Максимов же был бдительный коммунист, громивший теорию относительности Эйнштейна как идеалистическую.
Но вокруг III тома «Истории философии» развернулись уже в следующем 1944 г. политические события, ставшие весьма значимыми для философских дел. Тогда я еще не мог знать о закулисной стороне развернувшихся событий, связанной с борьбой за руководство «философским фронтом» между Г. Ф. Александровым, набиравшим всё большее влияние, и М. Б. Митиным и П. Ф. Юдиным, занимавшими высокие посты, но всё же шедшими под уклон. Неожиданно для всех против III тома выступил профессор Зиновий Яковлевич Белецкий, обозленный и приниженный своим удалением из института, считавшегося центром философской жизни. От Б. С. Чернышева, моего друга Михаила Федотовича Овсянникова, защитившего кандидатскую диссертацию об эстетике Гегеля и Бальзака в 1943 г., я узнал, как развивалось всё дело.
З. Я. Белецкий, окончив медицинский факультет Московского университета в 1925 г. и став врачом, затем поступил в Институт красной профессуры и получил звание профессора. В 1934–1943 гг. он возглавлял партийную организацию Института философии. О его философской и тем более историко-философской компетенции сказать фактически нечего. Он смог опубликовать лишь две-три статьи на политические темы. Директор Института философии П. Ф. Юдин уволил его оттуда за бездеятельность, и он стал профессором философского факультета МГУ (еще до войны он работал там как совместитель). Лекций он фактически не читал, а вел аспирантский семинар, в котором состоял и я.
Третий том «Истории философии» был доведен до изложения западноевропейской философии до середины XIX в., но добрая его половина была посвящена немецкой классической философии, большая часть которой, естественно, излагала ее фундаментальный идеализм, фокус которого составляла доктрина Гегеля, столь высоко значимая и использованная «классиками» марксизма, включая Ленина. В большой его статье «О значении воинствующего материализма» (опубликована в основанном тогда философском журнале «Под знаменем марксизма» № 3, 1922), вождь мирового пролетариата категорически рекомендовал учредить «общество материалистических друзей философии Гегеля». Быховский и Чернышев, основные авторы текстов III тома досконально использовали все наиболее значимые высказывания «классиков». Однако профессора, увлеченные аналитическим изложением трудных учений (а замыслы Быховского и в целом редакции предполагали еще четыре тома), фактически не учитывали, что третий том публикуется в разгар ожесточенной войны с немцами. Белецкий же использовал это обстоятельство, как иногда говорится, на всю катушку. Он обратился к Сталину с большим «разоблачительным» письмом. Длительное время о содержании этого письма мы могли судить лишь косвенно по суждениям Белецкого на нашем аспирантском семинаре. Но сравнительно недавно профессор Анатолий Данилович Косичев в архивах ЦК ВКП(б) – КПСС обнаружил это письмо и опубликовал его в книге «Философия. Время. Люди. Воспоминания и размышления декана философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова» (М., 2007). Выпускник ИКП философии З. Я. Белецкий весьма туманно трактовал историю философии, полностью отрицал целостность ее традиций, утверждая, что воззрения любого философа определяются временем его жизни, национальным фактором и, главное, тем социальным статусом, к которому он принадлежал. Белецкий доводил до абсурда принцип социального детерминизма, который определял и методологию «классиков». Автор письма их положения использовал выборочно. «Забывал» о работе Ленина «Три источника, три составных части марксизма». Настойчиво подчеркивал ленинское утверждение, что идеализм – это «поповщина». Использовал некоторые преувеличения немецкого национального фактора, которые кое-где имеются у Гегеля (и тем более у Фихте). Преувеличивал известное высказывание Гегеля о необходимости войн как морально мобилизирующего фактора национальной жизни (авторы тоже критически использовали данный текст). В целом стремился доказать, что авторы III тома, искажая положения «классиков», фактически защищают идеализм.
Приспосабливаясь к честолюбию Сталина, Белецкий утверждал, что авторы не считаются с некоторыми положениями его очерка «О диалектическом и историческом материализме». Если Асмус в предвоенной брошюре, как и Быховский, убедительно доказывал, что Гегель (и тем более Фейербах), в сущности, сторонники гуманизма, который растоптал фашизм, то Белецкий утверждал, что они подлинные предшественники фашизма. Здесь же Белецкий не забыл прибавить, что Быховский – бывший троцкист, а Асмус – меньшевиствующий идеалист, а Лосев, присланный на факультет из ЦК, – откровенный мистик.
Сталин ознакомился с этим письмом и позвал Г. Ф. Александрова, дал прочитать ему и спросил его мнение. Слухи об их «свидании» и позиции Сталина я слышал еще в конце войны, но наиболее достоверно суть этого разговора передана в книге академика Т. И. Ойзермана со слов самого Александрова (разумеется, после смерти Сталина), с которым он был достаточно близок со времен МИФЛИ, в его монографии «Оправдание ревизионизма» (М., 2005). Ознакомившись с письмом Белецкого, Теодор Ильич сказал вождю, что это письмо свидетельствует о философской малограмотности автора, его истолкование философии Гегеля совершенно перечеркивает трактовку Маркса, Энгельса, Ленина, да и самого Сталина в его очерке «О диалектическом и историческом материализме». Но, выслушав такую оценку, Сталин сказал, что, по-видимому, в философии автор письма и не силен, но у него совершенно ощутим философский нюх.
Для прояснения ситуации генсек распорядился передать письмо Белецкого в ведомство секретаря ЦК Г. М. Маленкова для тщательного обсуждения. В этой акции проявилось определяющее свойство Сталина-политика. Философия как таковая, по существу, его не интересовала (и здесь, полагаю, его отличие от Ленина). В его очерк для «Краткого курса истории ВКП(б)», автор в различных разделах (особенно в истматовском) стремится зафиксировать практическо-политические выводы для «углубленного» понимания и истолкования социальной жизни. При этом философию Гегеля он явно не жаловал и – косвенные свидетельства – пренебрежительно относился к «Философским тетрадям» Ленина. Как сообщает Т. И. Ойзерман в его названной книге, со слов Александрова Сталин вызвал его вместе с заместителями (П. Н. Федосеевым, М. Т. Иовчуком и В.С. Кружковым) и спросил их, как они трактуют социальную суть философии Гегеля. Никто из них не решился сформулировать свое понимание (но сделать это мог, конечно, только Александров). Тогда высказался сам Сталин: «Философия Гегеля – это аристократическая реакция на Великую французскую революцию и французский материализм XVIII в.». Вождь высказал совершенно нелепую идею, свидетельствующую о его полной некомпетентности в истории философии этого периода (и не только).
По-своему глубокую критику этой революции сформулировали так называемые традиционалисты уже во время ее и вскоре после – англичанин Эдмунд Берк, французы Жозеф де Местр и Луи Бональд. В том же III томе содержится весьма содержательный анализ их сугубо консервативных воззрений, но тогда с ними вряд ли кто знакомился. Социальные воззрения Гегеля здесь тоже были представлены в соответствии с уже принятой трактовкой: энтузиаст событий французской революции в студенческие и молодые годы, в «Философии права» он консерватор, но сторонник конституционной монархии и гражданского общества. Вождь, по-видимому сам III тома не читая, свою «смелую» трактовку социального гегельянства не опубликовал, хотя она стала в общем известна и приводила к растерянности действующих философов. На философской дискуссии 1947 г. (я на ней присутствовал и скажу о ней дальше), которой руководил главный тогда идеолог А. А. Жданов, ему из зала кто-то задал вопрос, как понимать эту трактовку социальности Гегеля т. Сталиным. Жданов уклонился от ответа и сказал, что уточнит ее с ним своим.
Обсуждение III тома (трижды в секретариате Г. М. Маленкова – А. С. Щербакова) в соответствии с указанием Сталина состоялось в феврале-марте 1944 г. О нем мне рассказал Б. С. Чернышев, затем я слышал об этом и от других фигурантов. Быховский, Асмус и Чернышев, специалисты весьма компетентные, говорили о фактическом невежестве, вульгаризаторстве и примитивизме позиции Белецкого, присутствовавшего здесь же и тоже выступавшего. Но вся убедительная компетентность и эрудиция вышеназванных профессоров была совершенно безразлична секретарям ЦК, ибо они знали позицию Сталина. Отсюда и итоги «дискуссии»: тому же Александрову, напутствовавшему названных профессоров показать невежество «горбуна» (Белецкого), было предложено написать полностью критический текст, который был опубликован как решение Политбюро в 7–8 номерах журнала «Большевик» (официальный орган ЦК ВКП(б)) за 1944 г.: «О недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII – начала XIX вв.». Здесь в особенности «разоблачалось» возвеличение Гегелем немцев «как избранного народа». Сталин-политик показал, как надо трактовать прошлое с позиций настоящего, да еще полыхающего огнем. «Извратителями» были названы Быховский, Чернышев (умерший от инфаркта в сентябре того же года) и Асмус. Белецкий же фактически «реабилитировался».
С III тома сталинская премия была снята (восстановлена как государственная после смерти вождя). Митина отстранили с поста директора ИМЭЛ, а Юдина – директора Института философии. Быховский был лишен поста заведующего сектором истории философии и отправлен рядовым редактором в «Большую советскую энциклопедию». Александров остался на своем посту.
Примерно в то же время и на философском факультете произошли неприятные, печальные события. Александров понял свою политическую ошибку с Лосевым. По инициативе Белецкого был проработан А. Ф. Лосев, преподававший в семинаре студенческой группы IV курса, как сугубый гегельянец, идеалист и даже мистик. Алексей Федорович сообщил мне много позже, что был приглашен к председателю комитета по высшей школе С. В. Кафтанову и тот сказал ему, что они считают, что как доктору филологических наук ему лучше работать «по специальности», и отправил его на кафедру классической филологии в пединститут им. Ленина.
На факультете случились и другие неприятности. Бывшего декана Г. Г. Андреева, принимавшего на службу Лосева и Попова, в 1943 г. отправили в советскую дипмиссию в Лондон, но в 1944 г. отозвали в Москву в МИД, а после какого-то краткого отчета пригласили в МГБ и в итоге дали 25 лет лагерей (он отсидел половину этого срока, после смерти Сталина вернулся в университет). Были также арестованы два студента: А. Романов, работавший в семинаре Лосева, и А. Ревзон (под сурдинку критиковал новый гимн, но один из сокурсников не согласился с ним). Б. С. Чернышева освободили от поста декана, которым он стал после отъезда в Лондон Андреева, и заменили доцентом Д. А. Кутасовым, бывшим деканом факультета перед войной в МИФЛИ.
Торжество Белецкого на факультете стало полным. В лектории МГУ он стал читать небольшой курс по осужденному немецкому идеализму. По моему аспирантскому восприятию, его лекции были примитивны: социологизированы и политизированы, философски поверхностны. Со второй лекции я ушел и больше их не посещал.
Отрицательность описанных событий для факультетской жизни и философского образования компенсировалась и положительными приобретениями, косвенно и непосредственно связанными с этими событиями. Нетерпимым фактом философского (и не только) образования, как оно сложилось в довоенные времена, было отсутствие курсов и семинаров по логике. Это осознавалось и в верхах. Не раз мне приходилось слышать, что инициатива принадлежала здесь Сталину. Можно думать, что его семинарская учеба полностью у него не выветрилась. Да и его произведениям, и в особенности выступлениям и речам, при всей их сугубой упрощенности нельзя отказать в логической ясности. В 1941 г., еще перед войной, «партия и правительство» приняли постановление о введении в школьное образование двух новых предметов – логики и психологии. На философский факультет МИФЛИ приглашался профессор Валентин Фердинандович Асмус с эпизодическими лекциями о предмете логики. Тогда я с ним и познакомился (два-три вопроса). В 1942–1943 гг. преподавание логики на философском факультете МГУ было восстановлено. Там уже работал упомянутый выше высокоавторитетный профессор В. Ф. Асмус, о котором в дальнейшем будет специальный разговор. Собственно для преподавания логики на факультет были в 1942 г. посланы ведомством Александрова А. Ф. Лосев и П. С. Попов, окончившие отделение логики и психологии Московского университета еще в 1915 г. В 1947 г., когда появились аспиранты-логики и другие преподаватели, возникла и кафедра логики, которую возглавил профессор Попов, и мы в дальнейшем к ней вернемся.
Другим приобретением философского факультета, можно считать прямо связанным с описанными событиями вокруг III тома «Истории философии», стала организация кафедры истории русской философии. Поворот в сторону ее преподавания наметился уже перед войной, и политически здесь опять проявилось воздействие резкого поворота Сталина к истории России, в которой, по его категорическому утверждению, уже построен социализм. Редакция III тома наметила из последующих четырех томов один посвятить истории русской философии. В значительной мере, по-видимому, вчерне, он был написан ко времени обсуждения этого тома, а в ходе самого обсуждения прозвучала довольно резкая критика Митина и Юдина, которые уже довольно долго руководили «философским фронтом», но тормозили разработку русской философской тематики (см. статью Г. С. Батыгина и И. Ф. Девятко «Советское философское сообщество в сороковые годы. Почему был запрещен третий том «Истории философии»? в кн. «Философия не кончается. Кн. I. Из истории отечественной философии. ХХ век. 1920–50-е годы». Под ред. В. А. Лекторского. М., 1998). Во всех вузах СССР преподавали диалектический материализм главным образом по произведениям Энгельса, в которых первостепенная роль отводилась Гегелю, главному классику немецкого идеализма с его диалектическим методом, как и Фейербаху, ущербному материалисту, но тем не менее сыгравшему переломную роль в переходе Маркса и Энгельса на позиции материализма, уже так называемого диалектического. Всё это потребовало создания истории русской философии во главе с Михаилом Трифоновичем Иовчуком, окончившим Академию коммунистического воспитания и одним из заместителей Александрова в Управлении агитации и пропаганды. Кафедра истории философии стала называться кафедрой истории западноевропейской философии.
В 1944–1945 гг. на факультете работали два аспирантских семинара – по истории философии, которым руководил Б. С. Чернышев вплоть до своей смерти, и по диалектическому и историческому материализму, которым руководил З. Я. Белецкий. Кроме меня в этих семинарах участвовали М. Ковальзон, Ш. Герман, Е. Куражковская, Д. Кошелевский, А. Никитин, позже присоединился В. Келле, демобилизованный после госпиталя. Семинары работали активно.
Мы с моим другом, тогда доцентом М. Ф. Овсянниковым не стеснялись в критике (с преподавателями и аспирантами) Белецкого как продолжателя В. Шулятикова, дореволюционного литкритика и философа, который в книге «Оправдание капитализма в западноевропейской философии» развивал сверхвульгаризаторскую трактовку этой философии, большевика, чьи воззрения отвергал даже Ленин. У меня же были нередки довольно резкие споры с Белецким на его семинаре, поскольку я уже тогда не принимал марксистского положения о сугубой «надстроечности» философии над пресловутым социально-экономическим базисом. Белецкий при поддержке некоторых аспирантов не раз меня «прорабатывал».
Мне это аукнулось при защите кандидатской диссертации в июне 1946 г. В ней я трактовал соотношение марксистского решения проблемы свободы и необходимости с домарксистским ее решением Спинозой и в меньшей мере Гегелем. Тема эта, стимулированная идеей Маркса о том, что будущее коммунистическое общество, к которому придет всё человечество, станет «царством свободы», тогда активно обсуждалась. Перед самой войной кандидатскую диссертацию по этой теме защитил Т. И. Ойзерман. Теперь взялся за нее и я, стремясь в меру своих знаний прояснить ее родословную. После благожелательного выступления официальных оппонентов, В. Ф. Асмуса и М. Ф. Овсянникова, и моего им ответа выступили с резко отрицательными выпадами члены кафедры диамата – будущий столп диалектической логики доцент В. И. Мальцев, теоретик эстетики С. С. Гольдентрихт. Оба они отрицали саму идею сравнения марксистского решения данной проблемы с какой-то домарксистской темнотой (последний из них, помнится, указал на то, как Александр Матросов закрыл своей грудью немецкую амбразуру – ярчайший факт ленинско-сталинского понимания свободы в действии).
В выступлениях этих неофициальных оппонентов содержались кричащие противоречия, которые умело выявил в своей реплике мой научный руководитель (после смерти Б. С. Чернышева) Орест Владимирович Трахтенберг, показавший, что это не те противоречия, «которые ведут вперед» (формула Гегеля). И здесь в атаку пошел сам З. Я. Белецкий. Общий смысл его выступления был тот же: само сопоставление марксистской концепции свободы с предшествующими в корне порочны. Были какие-то и более частные и малоубедительные возражения, которых теперь не помню (стенограмма не велась, не было и совета как такового, голосовали все, кто имел степень или звание). Я резко, запальчиво и, полагаю, не очень-то умело отвечал Белецкому, стремясь показать неубедительность его возражений. По своей невоспитанности я совсем не благодарил его, как мне советовали сделать в ожидании результатов голосования тогдашний аспирант Ю. К. Мельвиль, и П. В. Копнин, и другие более зрелые друзья. Я ждал провала, но оказалось, что при голосах против я всё же прошел «в упор». Думаю, что не из-за моего поведения, а из-за активной неприязни к Белецкому (обратившемуся с новыми письмами к Сталину против Александрова) и его кафедре, о чем свидетельствовали громкие аплодисменты довольно многочисленной публики.
В конце того же 1946 г. я был утвержден в степени на ученом совете МГУ под председательством ректора академика А. Несмеянова (ВАКа тогда еще, кажется, не было). Но возможность работы на кафедре истории западноевропейской философии, о чем я мечтал, мне была закрыта. Слабовольный ее заведующий В. И. Светлов, работавший по совместительству и сменивший Б. С. Чернышева, совершенно пасовал перед сверхволевым З. Я. Белецким, во многом определявшим кадры не только своей кафедры, но и других. В частности, он определял и кадры по логике, и П. С. Попов сумел с ним договориться, хотя А. Ф. Лосев в результате его «разоблачений» был удален из университета.
Но в то время, осенью 1946 г., была открыта Академия общественных наук (АОН), как бы вместо Института красной профессуры, закрытого в 1938 г. (множество арестов среди преподавателей и слушателей). Новая академия, как и тот институт, была ориентирована на партийных работников. Среди нескольких кафедр здесь учредили три философских: диамата-истмата (заведующий П. Н. Федосеев), истории философии (возглавил сам Г. Ф. Александров) и логики и психологии (во главе с высококвалифицированным психологом Б. М. Тепловым). Каждая кафедра имела кабинеты соответствующей литературы. Я поступил заведовать кабинетом при кафедре истории философии. Новая академия набирала партийных аспирантов, которые после трехлетнего обучения должны были защищать кандидатские диссертации.
Здесь необходимо вспомнить, что в довоенном СССР диссертаций, даже кандидатских, защищалось крайне мало, не в последнюю очередь потому, что приобретенная степень фактически не увеличивала зарплату. В 1946 г. «остепенение» значительно по тем временам ее увеличивало. С каждым годом теперь увеличивалось и количество защит, более всего кандидатских, но постепенно и докторских. Сами защиты всё более превращались в инсценировки, особенно если диссертант в официальной характеристике наделялся высокими партийно-общественными качествами. Поток диссертаций наиболее широким был в сфере истории ВКП(б), как в наиболее актуальной тематике в политическом аспекте. Снижение требовательности и, соответственно, качества диссертаций (я имею здесь в виду прежде всего, если не главным образом, общественно-политическую, включая и философско-идеологическую проблематику) рождало множество шуток и анекдотов: «Если в диссертации списан один чужой текст – это плагиат, два текста – реферат, три – компиляция, четыре – диссертация».
* * *
Поскольку АОН была учреждена фактически при управлении агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), Александров раз или два назначал заседания кафедры в своих помещениях, и я, как заведующий кабинетом при его кафедре, стал вхож в главное здание страны. В самой академии и тем более здесь я увидел, как она управляется, рассмотрел и даже познакомился с некоторыми из эпигонов.
С Александровым я общался главным образом через его заместительницу по кафедре доцента Марию Дмитриевну Цебенко, но иногда и лично. Он представлялся мне довольно симпатичным, даже для меня немного открытым, а особенно для моего друга Павла Тихоновича Белова, работавшего с ним перед войной. Я, не очень-то тогда квалифицированный в истории философии, иногда при разработке и обсуждении программы кандидатского минимума всё же замечал кое-какие промахи и ошибки в познаниях шефа. Но я, конечно, понимал, что при его партийно-политической занятости у него вряд ли находится время для углубления своих знаний, и он жил «старым запасом».
На заседании кафедры в ЦК присутствовали оба его заместителя – Петр Николаевич Федосеев (первый) и Михаил Трифонович Иовчук (второй). Я обратил внимание, что когда Александров торопил с составлением программы кандидатского минимума для аспирантов, то посматривал на Федосеева, который говорил, что не стоит с этим так уж торопиться. Когда же программа минимума по кафедре Александрова была отпечатана, в отделе кадров ЦК зафиксировали, что большинство аспирантов взяты кафедрами АОН неправильно по их партийным и служебным качествам. На эти кафедры пришлось набирать других аспирантов. Кафедра же диамата, руководимая Федосеевым, даже не приступала к составлению своей программы.
В дальнейшем я более подробно узнал о Федосееве, наблюдая его в АОН. Несколько удивлял его партийный стаж, ибо он стал членом ВКП(б) лишь в 1939 г., в то время как его ровесники Иовчук и Александров вступили в партию в 18 и в 20 лет. Мне объяснили тогда, что Федосеев – сын кулака и не мог стать коммунистом так рано, как его теперешние сослуживцы. Наблюдая его и впоследствии (короткое время я был даже заместителем редколлегии «Философского наследия», а председателем был Петр Николаевич), я убедился в его «герметичности». Он был из тех, о ком говорят: «Слово – серебро, молчание – золото». Окончив исторический факультет горьковского пединститута, он стал аспирантом философского факультета МИФЛИ и перед войной защитил кандидатскую диссертацию «Ленин и Сталин о религии и атеизме». В дальнейшем, работая в ЦК ВКП(б) редактором теоретического органа журнала «Большевик», теоретического органа Центрального комитета, он стал и академиком, и вице-президентом АН СССР, и директором Института философии, и директором ИМЭЛ. Пользовался большим авторитетом в партийных верхах. Его поздний труд «Диалектика современной эпохи» явно составлен при помощи референтов.
В 1946 г., когда я стал работать в АОН, Александров достиг вершины своей партийно-государственной значимости: начальник названного управления, член Оргбюро ЦК, которому после смерти секретаря ЦК ВКП(б) А. С. Щербакова Сталин поручал делать традиционные доклады в день смерти В. И. Ленина. Естественно ему было досадно, что Митин и Юдин, не имевшие каких-либо значимых трудов, не защищавшие диссертаций, были членами Академии наук и как бы возглавляли «философский фронт». Александров вместе со своими заместителями тоже решили стать членами Академии наук. Было при этом одно препятствие: туда нельзя было баллотироваться, не имея степени доктора наук, а Иовчук, тоже работавший по совместительству на кафедре истории философии АОН, таковой не имел. Необходима была срочная защита, ибо до выборов в академию (ноябрь 1936 г.) оставались, кажется, две-три недели и надо было торопиться.
Михаил Трифонович, коммунист чуть ли не с юношеского возраста, был типичным партийным карьеристом. Окончив Академию коммунистического воспитания, он оставался поверхностным и безнадежным догматиком, ухватившимся за русских революционных демократов, мусолившим «ленинские традиции в философии». Лез во все редколлегии, включая те, в которых он был пустым местом. В отношении подчиненных и тех, кто стоял ниже его по служебной лестнице, нередко проявлял себя откровенным хамом. Вместе с тем обладал даром хорошей речи и определенного остроумия. Не признавая Марка Борисовича Митина достойным руководителем «фронта», он придумал для него «псевдоним» Мрак Борисович Мутин. Обыгрывая его свойства «толкать речи» не всегда по данному вопросу, Михаил Трифонович окрестил его Маркс Борисович Митинг.
Очень быстро на кафедре скомпоновали (главным образом благодаря помощнику диссертанта Владимиру Ивановичу Газенко) тексты под заголовком «Из истории русской философии», которые и были представлены в ученый совет. Первым официальным оппонентом стал тот же Митин, вторым – Владимир Семенович Кружков, преемник Митина в качестве директора ИМЭЛ, третьим – Орест Владимирович Трахтенберг, самый достойный и грамотный по сравнению с первыми. Защита состоялась «нормально», т. е. совершенно формально, Митин дал должный отзыв официального оппонента и совершенно положительную рекомендацию диссертанту. Но через неделю-другую, придя на кафедру, в присутствии моем и Цебенко он, ухмыляясь, сказал: «У меня такое впечатление, что Михаил Трифонович один и тот же текст трижды пропустил через пишущую машинку».
Новоиспеченный доктор, диссертация которого не попала в Ленинскую библиотеку, что в дальнейшем привело к неприятным скандалам для Иовчука, вместе с Александровым и Федосеевым стал членом академии: первый действительным, остальные – членами-корреспондентами.
Они, надо думать, очень торжествовали, но, оказалось, преждевременно. Уже после избрания всё это стало известно Сталину. В свое время он «помог» пройти в академию с соблюдением всех формальностей Митину (в действительные члены) и Юдину (в члены-корреспонденты). Но они тогда были нужны Сталину для сокрушения «меньшевиствующего идеализма», основанного на гегельянстве. Теперь же он поддерживал другой порядок, зорко следя за теми выдвинувшимися деятелями руководства партии, которые слишком «зарывались». От многих работающих в АОН я слышал, что генсек пригласил президента академии Сергея Ивановича Вавилова и просил его сообщить, каким образом все представители руководства управления агитации и пропаганды ЦК стали членами Академии наук. Тот ему ответил, что на этих достойных лиц поступила рекомендация ЦК ВКП(б) (она была обязательна и тогда строго соблюдалась). «Ну, я вам такой рекомендации не давал, – сказал генсек. – Может быть, она поступила от т. Жданова?» Вавилов ответил, что и этого не было. «Тогда кто же такую рекомендацию вам направил?» – снова спросил вождь. «Мы получили ее от т. Иовчука», – ответил президент академии (следовательно, Иовчук рекомендовал и самого себя). Тогда генсек спросил Вавилова: «А нельзя ли их всех обратно»? Последний сказал, что, увы, устав академии не позволяет такое сделать. Сталин будто бы сказал: «Ну, хорошо. Мы примем свои меры». Действительно, вскоре мы узнали, что Иовчук удален из ЦК партии и направлен в Белоруссию как секретарь по пропаганде тамошнего ЦК. Федосеев был назначен главным редактором «Большевика». Положение Александрова тоже покачнулось.
Когда несколько лет тому назад совет МГУ присваивал звание заслуженного профессора Московского университета Юрию Андреевичу Жданову, прибывшему для этого действа из Ростова-на-Дону, где он, член-корреспондент АН СССР, работал в филиале академии, меня тоже позвали на тот совет (в сталинские годы я был немного знаком с ним). Ю. А., окончивший перед войной химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в конце 1940-х гг. заведовал отделом науки ЦК ВКП(б) и, будучи зятем Сталина (вторым мужем его единственной дочери Светланы), весьма способствовал решению о строительстве комплекса современных зданий МГУ на Ленинских (Воробьевых) горах. Он мне подтвердил выше рассказанный эпизод об отношении Сталина к академическому делу Александрова. При этом добавил существенный момент – что Сталин, назначая внушительные оклады академикам, считал, что следует каждые пять лет проводить их ротацию, заменяя неэффективных академиков на более эффективных путем новых выборов. Такой замысел Сталина представляется актуальным в контексте теперешней реорганизации Академии наук. Но вместе с тем он, по-видимому, достаточно утопичен, поскольку и у нас, да и повсюду «большие ученые» приходят в Академию наук на всю жизнь.
Летом 1945 г. Александров опубликовал книгу «История западноевропейской философии», которой был присвоен гриф учебника для вузов. В действительности это была небольшая доработка книги с таким же названием, опубликованной автором в 1939 г. на основе курса лекций, который он читал на философском факультете МИФЛИ. Мы, аспиранты, изучая ее, убедились, что это стандартное произведение на основе уже традиционной тогда марксистской методологии, в которую вписывались пересказы воззрений философов с эпохи Возрождения. Нам было совершенно ясно, как далеко ей до «осужденного» III тома «Истории философии», который, основываясь в принципе на той же методологии, давал конкретный анализ воззрений философов при довольно тщательном прочтении их произведений. Но книга уже влиятельного партийного деятеля была высоко оценена в рецензиях. Профессор Марк Петрович Баскин (работал по совместительству в МГУ на нашей кафедре), оценивая в своей рецензии книгу как «выдающийся труд», оканчивал ее сожалением, что «явно недостаточен тираж издания» (50 тысяч!). При таких похвалах естественно, что труд Александрова был увенчан Сталинской премией. Но Белецкого это не смутило, и он в конце 1946 г. обратился к Сталину с письмом, в котором утверждал, что автор книги совершенно не учел в ней решения Политбюро ЦК о III томе «Истории философии». Существо же его критики, как он говорил на нашем семинаре, – игнорирование «классовой сущности», автор книги трактует философов как сотоварищей по профессии, полностью забывая о классовых корнях и т. п.
Письмо Белецкого оказало свое действие. ЦК ВКП(б) потребовало обсудить положение на «философском фронте» в связи с книгой Александрова, замечаниями Белецкого и постановлением Политбюро по III тому. Такое достаточно аморфное обсуждение состоялось в Институте философии в январе 1947 г., я на нем присутствовал. Председательствовавший В. С. Кружков, сверхосторожный П. Н. Федосеев и другие осуждали воззрения Белецкого как антимарксистские. Сам он тоже присутствовал, но промолчал.
Однако и это обсуждение не удовлетворило высшее партийное руководство (прежде всего, конечно, Сталина). Постановили провести новую дискуссию.
Она состоялась в здании ЦК ВКП(б) в конце июня 1947 г. На ее заседания из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов была привлечена не одна сотня участников, имевших прямое или косвенное отношение к «философскому фронту». Я, как работник АОН, состоявший на учете в ее партийной организации, тоже был сюда допущен. Всматривался в президиум, где сидели А. Жданов, А. Кузнецов, М. Суслов (секретари ЦК), М. Шкирятов (председатель комиссии партконтроля). Первый из них вел заседания непринужденно и улыбчиво. К концу шестидневного заседания, когда выступил сам Жданов, в то время первый идеолог партии, выявилась в очередной раз особенность подобных заседаний, объявлявшихся дискуссиями. Как полностью стало ясно впоследствии для большинства непосвященных, Сталин напутствовал организаторов о полной свободе выступлений участников, но окончательный смысл и цель этих выступлений были зафиксированы в той самой речи Жданова, которую одобрил Сталин с несколькими замечаниями и поправками. По его заданию сначала следовало вскрыть недостатки учебника Александрова, а затем подвергнуть «партийному анализу» состояние всего «философского фронта». Сам учебник по своей содержательности и литературному исполнению, по моему уже тогдашнему и тем более последующему мнению, содержательно и литературно был ниже злосчастного III тома, который я достал в библиотеке АОН.
Сам по себе учебник Александрова не заслуживал столь широкого и длительного обсуждения, но решали идеологические установки, сформулированные Сталиным, в принципе ясные для Жданова и без того. Не успел он окончить свою речь, как Кузнецову, теперь председательствующему, посыпались заявления записавшихся, но еще не выступивших участников с отказом от предполагавшихся выступлений. Впрочем, некоторые из них воспользовались правом представить для отчета о дискуссии свои тексты. Характерен тот анекдотический скептицизм, который проявлялся в кулуарах относительно подлинной безошибочности для авторов их теоретических публикаций (мне, в частности, сформулировал это О. В. Трахтенберг): их собственные формулировки должны представлять кратчайшее расстояние между двумя цитатами из «классиков» марксизма-ленинизма или из официальных документов. А еще вернее – привести цитату, а в скобках указать: «Разрядка моя». Так под сурдинку выражался абсурд предельного догматизма, который действительно был свойствен многим «теоретическим» публикациям.
Но тем не менее ряд моментов речи Жданова свидетельствовал о его начитанности в историко-философской литературе. Например, идея, согласно которой в ходе историко-философского процесса, начиная с античности, от философии отделяются всё новые и новые науки. В этом контексте возникает проблема, близкая к позитивистскому истолкованию философии. Что же остается от философии, тем более с марксистско-ленинской идеологией? Но здесь неверна основная посылка, ибо философия никогда не была некой пранаукой, но развивалась, конкретизировалась в тесной связи с практически-научным знанием, рационализирующим и конкретизирующим философию прежде всего в отношении к мифологическому мировоззрению.
Жданов, как и участники дискуссии, в различных аспектах трепали своей критикой схематичность, нечеткость учебника Александрова, потешаясь, в частности, над бедным Марком Петровичем Баскиным («морской философский волк» ждановской речи), сожалевшим, как отмечено выше, о недостаточности огромного тиража книги. Наиболее основательными и весьма неприятными для автора книги и ответственного партийного начальника были в основном традиционные провалы книги: «объективизм», ослабляющий, если не устраняющий марксистско-ленинскую партийность, в ряде случаев как бы солидарность с некоторыми из домарксистских философов, усеченность изложения формирования марксизма, заканчивающегося «Коммунистическим манифестом» и революцией 1848 г., в то время как оно, конечно, продолжало развиваться и Марксом, и Энгельсом, и Лениным, а теперь и Сталиным. Главный же порок книги Александрова заключается в том, что марксизм, доведенный до предельной высоты ленинизмом, знаменовал революционный переворот в философии, когда она из различных систем мыслителей-одиночек стала единым учением для миллионных масс. Можно было бы добавить, что тем самым она трансформировалась в идеологию, но первое слово было всё же более значимо и серьезно.
В своем заключительном слове Александров, конечно, каялся, полностью признавал свои ошибки, заверял как Жданова, так и Сталина в радикальном изменении своей деятельности, уверял в существенной переработке новой книги по истории философии и т. п. Когда уже закончилась «дискуссия», он, смущенный, стоял перед Ждановым, по выражению моего друга П. Т. Белова, как побитая собачонка, и в чем-то оправдывался. Многим стало ясно, что он переоценил свое положение и свою роль в партийном руководстве. Его освобождение от высокой должности и перемещение на должность директора Института философии состоялось через три-четыре месяца. Несколько загадочно, что столь жестко раскритикованную «Историю западноевропейской философии» не лишили Сталинской премиии (во всяком случае в печати ничего подобного не было объявлено).
Прямым результатом речи Жданова для изучения истории философии стало расширение преподавания марксизма во всем его хронологическом объеме. Притом воззрения и произведения Маркса и Энгельса изучались лекционно и семинарски на кафедре истории западноевропейской философии, впоследствии переименованной в зарубежную, а Ленин и Сталин – на кафедре истории русской философии. Трагикомизм последних курсов (прежде всего для бедного Григория Степановича Васецкого, который их читал) проявился сразу после XX съезда, когда сталинист Хрущев столь примитивно раскритиковал Сталина (на университетском партактиве историки КПСС утверждали, что в 1920-е гг. он был еще троцкистом, но сумел вовремя покаяться перед Сталиным). Удаление из преподавания его произведений и статей привело почти к половинной резекции «ленинского этапа в философии».
Положительным результатом той же дискуссии стало учреждение журнала «Вопросы философии». В нем, конечно, печаталось множество идеологизированных статей, но появлялось всё больше и собственно философских.
Ситуация на уровне философствующих эпигонов, непосредственно руководивших «философским фронтом» в различных учреждениях, по существу, менялась мало. В ней происходили лишь персональные изменения, как и сражения между ними, что в определенной мере оправдывало идею «фронта», в принципе призванного громить «буржуазную философию», которую знали и понимали очень плохо, и всякого рода попытки «искажения» марксизма-ленинизма.
В названном выше издании «Философия не кончается…» (кн. I, с. 232) приводится весьма характерная для состояния «фронта» докладная записка вышеупомянутого Ю. А. Жданова, тогдашнего заведующего отделом науки ЦК ВКП(б), написанная в сентябре 1949 г. секретарю ЦК М. А. Суслову, ставшему главным идеологом партии после смерти А. А. Жданова. Здесь Ю. А. пишет о «наших философах-профессионалах, заполняющих институты философии и философские кафедры учебных заведений, партийных школ… никто из них за тридцать лет советской власти и торжества марксизма в нашей стране не высказал ни одной новой мысли, которая вошла бы в сокровищницу марксизма. Более того, никто из наших философов-профессионалов не высказал ни одной мысли, которая обогатила бы какую-либо конкретную область знаний. Это в равной степени относится к Деборину и Митину, Юдину и Александрову, Максимову и Кедрову и всем остальным». Хочется сказать теперь уже покойному (в те годы моему знакомцу) сыну своего отца и зятю самого Сталина, что определяющая роль эпигонов, им названных и неназванных, заключалась главным образом в том, чтобы следить за «чистотой» марксизма и поддерживать ее, продолжая и даже усиливая догматизм «непрерывно развивающегося» учения, как тогда писали. К тому же адресат записки еще бдительно нес ту же службу, хотя тогда был далек от философии.