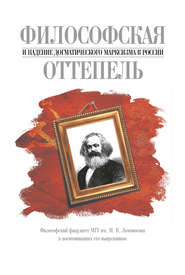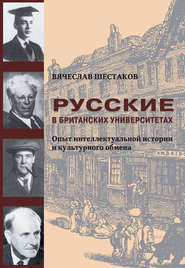По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский серебряный век: запоздавший ренессанс
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Леонтьев – человек необычайной жизненной судьбы и смелой творческой мысли. Он существенно отличается от большинства русских философов, не примыкая к какой-либо из известных школ. Поражает его близость с философией Ницше, хотя сам Леонтьев с нею не был знаком. Поэтому, как выразился Василий Розанов, Леонтьев был «русским Ницше до Ницше», по сути дела предвосхитившим некоторые идеи немецкого философа. Существует много точек соприкосновения между Ницше и Леонтьевым и эстетизм, пожалуй, одна из них.
Леонтьев был первым русским философом, которому принадлежит попытка теоретически обосновать эстетизм как универсальный принцип бытия и знания. Наиболее полно суть своего понимания эстетизма Леонтьев изложил в известном письме С. И. Фуделю. Здесь он изобразил следующую систему наук и знаний:
«Мистика» (особенно положительные религии) Критерий только для единоверцев; ибо нельзя мусульманина судить по-христиански и наоборот.
Этика и политика Только для человека
Биология (физиология человека, животных, растений, медицина и т. д.) Только для органического мира
Физика (т. е. химия, механика и т. д.) и
Эстетика Для всего»[78 - Леонтьев К. Моя литературная судьба, Лондон, 1965. С. 20.].
Иными словами, по мнению Леонтьева, законы эстетики также универсальны и всеобщи, как законы механики и поэтому они приложимы для всех областей органического и неорганического мира, т. е. «для всего».
Другой источник рассуждений Леонтьева об эстетизме – переписка с В. В. Розановым, который нашел в лице философа своего учителя. В письмах к Розанову Леонтьев подробно обосновывает идею о главенствующем положении эстетики. По его словам, эстетика выше всех самых интеллектуальных форм сознания, она выше политики, морали и даже религии. Религиозный критерий применим либо к жизни отдельного человека, либо же к людям, исповедующим общую религию. Например, нормы христианства неприменимы к жизни древних римлян или китайцев. Само обращение Леонтьева к религии не в последнюю очередь продиктовано эстетическими мотивами. «Я эстетик, – говорил Леонтьев, – потому что эстетика религиозна и религиозен, потому что религия эстетична»[79 - См. Закржевский А. Одинокий мыслитель (Константин Леонтьев) – «Христианская мысль», № 12, Киев, 1916. С. 108.].
В такой же степени эстетика выше морали и довольно часто находится в откровенном конфликте с обыденной моралью. Например, жизнь великих людей нельзя оценивать только с моральной точки зрения. «В явлениях мировой эстетики есть нечто загадочное, таинственное и как бы досадное, потому что человек, не желающий себя обманывать, видит ясно, до чего эстетика с моралью и видимой житейской пользой обречена вступить в антагонизм и борьбу… Юлий Цезарь был гораздо более безнравственнее Акакия Акакиевича, и даже Скобелев был несравненно развратнее многих современных нам «честных тружеников», и если у вспоминающего эти факты есть эстетическое чувство, то что ему делать – коли невозможно отвергнуть, что в Цезаре и Скобелеве в тысячу раз больше поэзии, чем в Акакии Акакиевиче и в самом добром из сельских учителей»[80 - См. Бердяев Н. Константин Леонтьев. С. 101–102.].
Наконец, эстетика выше политики, потому что «высшая эстетика есть в то же время и высшая социальная и политическая практика»[81 - Леонтьев К. Собрание сочинений, СПб., 1913, Т. 6. С. 64].
Таким образом, эстетическое начало имеет приоритет во всех областях истории, жизни и природы. Правда, при этом Леонтьев понимал под эстетикой не отраженную красоту, не красоту искусства, литературы или поэзии, а эстетику самой жизни. «Мне кажется, – пишет Леонтьев в письме от 13 августа 1891 В. В. Розанову, – что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику в природе и искусстве, чем в истории и вообще в жизни человеческой. Эстетика природы и эстетика искусства (стихи, картины, романы, театр, музыка) никому не мешают и многих утешают. Что касается настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими опасностями, тягостями и жестокостями, со столькими пороками, что нынешнее боязливое (сравнительно, конечно, с прежним), слабонервное, маловерующее, телесно самоизнеженное и жалостливое (тоже сравнительно с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках оперных и трагедий и на страницах романов, а в действительности – «избави Боже!»…Я считаю эстетику мерилом наилучшим для эстетики и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям… Мерило положительной религии, например, приложимо только к самому себе… и вообще к людям, исповедующим ту же религию… Мерило чисто моральное тоже не годится, ибо придется предать проклятию большинство полководцев, царей, политиков и даже художников (большею частью художники были развратны, а многие жестоки)… В эстетическом же мировоззрении все совместимо! И все религии, и всякая мораль!»[82 - Леонтьев К. Моя литературная судьба. С. 21.].
В этом пространном отрывке из письма Розанову Леонтьев высказывает три главные идеи: 1)Универсальный характер эстетического критерия 2) Приоритет эстетического начала над моральным и религиозным 3) Связь эстетики с творческим инстинктом жизни, поскольку, как говорил Леонтьев, «эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами – творческой силы»[83 - Там же. С. 22.].
Хотя Леонтьев стремился обнаружить эстетику в объективных, творческих формах истории и жизни, он находил эстетизм и в жизненной позиции, в стремлении всегда идти против течения, в отрицании усредненных, общепринятых норм морали и поведения. Он говорил: «Эстетику приличествует во время неподвижности быть за движение, во время распущенности – за строгость; художнику прилично быть либералом при господстве рабства, ему следует быть аристократом по тенденции при демагогии; немножко libre penseur (хоть немножко) при лицемерном ханжестве, набожным – при безбожии»[84 - Бердяев Н. Константин Леонтьев. С. 101–102.]. Сам Леонтьев постоянно следовал этому правилу в своей жизни: в эпоху демагогии и уравнительства он защищал аристократизм, и он стал набожным в атмосфере усиливающегося безбожия.
Таким образом, Леонтьев встесторонне и последовательно развивал идею эстетизма, по ницшеански, хотя и до Ницше, оправдывая жизнь как эстетический феномен. Причем он, несомненно, был пионером в этой области, так как никто до него в России даже близко не подходил к этой идее.
Но если эстетизм в России не имел прошлого, то он, несомненно, получил будущее. Во всяком случае, реакция на него была бурная и далеко не однозначная. Сергей Булгаков, написавший статью «Победитель-Побежденный» к 25-летию смерти Леонтьева, оценивал философию Леонтьева скорее критически, связывая его эстетизм с аморализмом. «Леонтьев, – писал он, – является единственным во всей русской публицистике, которая всегда была отмечена своеобразной русской болезнью совести, мотивами жалости и покаяния, морализмом, – в нем состоит общая психологическая основа русского народничества всевозможных фасонов… В своем эстетстве он является как бы эстетическим уродом, но это уродство делает его необыкновенно свободным и смелым во всех суждениях и оценках»[85 - Булгаков С. Победитель – Побежденный, – в сб. «Тихие Думы», М., 1918. С. 119–120.]. Булгаков видел в эстетизме Леонтьева выражение того «люциферовского мятежа, который берет начало с Возрождения»[86 - Там же. С. 123.]. Поэтому, по его мнению, философия Леонтьева с самого начала должна была привести его к поражению.
Так же критически отнесся к эстетизму Леонтьева Павел Флоренский, который, впрочем, сам утверждал «верховенство красоты» в православии, хотя делал это совершенно по иному, чем Леонтьев. В своей книге «Столп и утверждение истины» он поместил специальное приложение, где он противопоставляет свой эстетизм, основанный на утверждении единства красоты и Бога, «безбожному» эстетизму Леонтьева. «Для К. Н. Леонтьева, – пишет Флоренский, – «эстетичность» есть самый общий признак; но для автора этой книги, он – самый глубокий. Там красота – лишь оболочка, наиболее внешний из различных «продольных» слоев бытия: а тут – она не один из многих продольных слоев, а сила, пронизывающая все слои поперек, Там красота далее всех от религии, тут она более всего выражается в религии. Там жизнепонимание атеистическое, тут же – Бог и есть Высшая красота, через причастие к которой все делается прекрасным»[87 - Флоренский П. Столп и утверждение истины. М., 1989. С. 585–586.].
Конечно, Павел Флоренский был прав. Его эстетизм коренным образом отличается от эстетизма Леонтьева. Для последнего эстетизм был универсальным началом, впитывающим в себя и мораль, и политику, и религию, тогда как у Флоренского эстетизм был точкой пересечения эстетики и религии при несомненном приоритете религии. Однако, показателен уже сам факт использования Флоренским понятия «эстетизм», что, несомненно, отражало распространенность и популярность этого понятия в русских философских и религиозных исканиях начала века.
По-иному оценил Леонтьева Василий Розанов, который обнаружил в его личности и творчестве «ревущую встречу эллинского эстетизма с монашескими словами о загробном идеале»[88 - Леонтьев К. Письма к Василию Розанову. С. 34.]. Знакомство (пусть и заочное) и переписка Леонтьева с Розановым пришлись на последний, предсмертный год его жизни. Это была неожиданная встреча молодого, 25-летнего, по сути дела, еще начинающего писателя с человеком зрелым, многое познавшим и о многом выразившем свое, как правило, оригинальное и критическое мнение. Но, несмотря на разность в возрасте и степени духовной зрелости, встреча оказалась плодотворной для обоих, каждому она принесла радость общения и понимания и породила, хотя и короткую, но верную дружбу.
Эта дружба обусловлена единством темпераментов, схожестью социального положения и происхождения: обнищавший дворянин-помещик в социальном отношении был тем же самым, что и учитель уездной гимназии. Помимо этого сказалась и общность консервативных политических идеалов, анти-либеральных настроений, нежелание идти путем «принудительного прогресса», взаимный интерес к религии и склонность к эстетизму.
В Леонтьеве Розанова подкупала искренность, стремление к срыванию всяческих масок, отказ от позы. «Более всего, – писал он, – меня приковывало к Леонтьеву его изумительно чистое сердце; отсутствие всякого притворства в человеке, деланности. Человек был весь в словах – как Адам без одежды. Среди масок литературных, всякой трафаретности в бездарных и всякой надломанности в даровитых, он мне представлялся чистою жемчужиной, в своей Оптиной пустыни, как на дне моря. И до сих пор, не имея ничего общего ни с его сословным аристократизмом, ни с его чаяниями «открыть вторую Америку» в византизме, я, тем не менее, сохраняю всю глубокую привязанность к этому человеку, которого позволяю себе назвать великим умом и великим темпераментом»[89 - Письма Константина Леонтьева к Василию Розанову. С. 26.].
Правда, при всей очевидной общности между Леонтьевым и Розановым проступали и серьезные расхождения. Розанов был, конечно, гораздо более утопичным, ориентированным на «среднего» и даже маленького человека, чем Леонтьев, от которого за версту веяло холодным аристократизмом. Розанов писал об этом: «Я был с Леонтьевым согласен на эстетику, но не в признании ее у богатых, а у бедных, согласен с религиозным его устроением души, но нуждаясь в религии, как в утешении, а не как источнике квиетизма (его точка зрения)»
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: