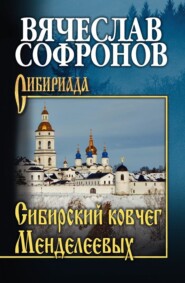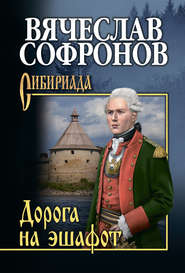По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сибирские сказания
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А не дорого ли будет за пятак?
– Бери за так. Мой квас семерых от смерти спас. А вот восьмой не напился, на телеге ехал, уснул, в овраг завалился. С тех пор его не видали, слыхом не слыхали. Кто квасок мой не пьет, тот свой товар не продает. Точно, дядя, бери не глядя. Мой квасок не про всякий роток. Он у меня ядреный, на луну-месяц заговоренный. Кто его отхлебнет, тот за свой товар хорошую деньгу возьмет.
Мужик башкой крутит-вертит, мозгой шевелит, хоть умом туговат, да в другом тороват: «И впрямь для начала – почину разгоню кручину, выложу пятачок, впереди денек, с торговли лишку возьму, авось наторгую за день поболе, коль Божья воля». Засопит, закряхтит, платочек с денежкой вытащит, пятачок выложит, примет кваску хваленого, на вкус ядреного.
– Не квас, а квасище, ока силища! – Мужик крякнет, в ладошки шмякнет. – На чем таком деланый, настоянный?
– Да он у меня с коричкой, с гвоздичкой, с лимонной корочкой, с листом мятным, для людей сладким. Счастливо, дядя, торговать, все до вечера распродать.
И ведь точно! В аккурат по его слову-уговору все и складывалось-получалось! Уже к полудню распродаст мужик свой товар, доволен-радехонек, едет с базара домой веселехонек, в трактир завернет, шкалик возьмет, мальца-квасника добрым словом помянет.
А вот с теми, кто от кваску того отказывался-отнекивался, всякое случалось: то обворуют, то лошадь уведут-подменят, а то покупатель не идет, товар не берет. Вот и пошел обычай-привычка на базаре среди мужиков с утра, спозаранку, кваску того на счастье-удачу принять, доброе слово заветное от мальца услыхать, а лишь потом торговлю начинать. И им ладно, и ему в прибыток, коль на пользу напиток.
А однажды приехал-пожаловал в Тобольск-город с-о-о-лидный купчина с десятью возами товара для нашенских мест дорогого, редкого, ранее невиданного. Сказывали, будто с самого Нижнего Новгорода привез он посуду с фарфора немецкого, ценного, для важных людей припасенного, из-за границы привезенного. И обустроился тот купчина, дюжий детина, со всеми десятью возами прямехонько посередь базару, словно царев слуга, его правая рука. Никакого ходу-проходу не стало. Но мужики смолчали, обиду от купчины того в бородах зажевали, вострым глазом поглядывают посматривают, как у него торг пойдет-сладится.
Тут к нему прямехонько-точнехонько пацан наш с квасом-кваском и подбегает-подскакивает, кружечку протягивает с приветом-улыбочкой: мол, испей, человек добрый, кваску, разгони тоску. А тот кружечку принял-взял, ко рту поднес, отхлебнул-пригубил, сморщился, словно дохлятину какую учуял-унюхал, да на землю и плесканул-вылил.
– Сырой твой квас, поганый. Не настоялся еще, силу не набрал. А ты народ дуришь-обманываешь. Пошел вон, пока целехонек, а то уши не надеру, будь радехонек.
Пацан обиду стерпел-проглотил, да голову не опустил, отвечает вежливо тому приезжему:
– Ты, дядя, пока не внакладе, зря меня не обижай, худым словом не называй, перед народом не срами, а пятачок гони.
– За что платить, коль не пил, лишь усы обмочил?
– А то не мое дело-знатье за твое житье. Не знаю, как у вас, а здесь знают мой квас. Все пробовали-пивали, плохого слова не сказали.
– Ну и дурни-обалдуи. Не стану платить за сырой квас, и весь мой сказ.
– Это с чего он сырой, коль с мятой настоянный. – Малец чуть не плачет, а от своего не отступает. – Он у меня с коричкой, с гвоздичкой, с лимонной корочкой…
– Не стану платить за сырую воду! Хоть тресни! – Купчина уперся, тоже в раж вошел-разошелся, набычился.
– Так, видать, мой квас совсем не про вас. Ты, купчина-дурачина, с воды давно пьян, с квасу бесишься, за пятак повесишься!
– Ах, ты еще почтенного человека обзывать-дразнить станешь! – Купчина с воза слез-спрыгнул, на мальца накинулся. А тот, не будь плох, плесканул ему из жбана квасом в глаза и айда наутек, как тот волчок. Купчина за ним, руки растопырив-раскинув, бежит-летит, озирается, рукавом отирается. Да разве пацана верткого-проворного догонишь-словишь, свою честь лишь уронишь. Да и местные мужики на подмогу не кинутся, а всяк норовит купцу дорогу загородить, в сторону сбить, то ножку подставят, то к возу придавят.
И пока он по всему базару за парнишкой бегал-гонялся, зазря надрывался, половину посуды дорогой-редкостной у него растащили-разграбили, кто сколь мог с собой уволок. Да еще остатки наземь сбросили, побили-растоптали, все распластали. У нас народ-то лихой, на обиду-укор памятной, поперек пойдешь и волос не найдешь. Когда купчина, запыхавшись-набегавшись, к возам вернулся, то чуток умом не тронулся. В такой убыток-разор вошел, верно, нищим по свету пошел. Городовой с околоточным заявились, сочувствуют-кивают, да только все понимают. Где кого найдешь-сыщешь, когда все всё видали, да словно в рот воды набрали, никто ни на кого не показывает, ничего не рассказывает. Хоть космат, да не медведь, хоть черен, да не ворон. Так ни с чем тот купец и уехал-пропал, в Тобольск больше носу не совал. Что не нашего роду, не пойдет в угоду, а коль Бог накажет, то кто прикажет…
Долго потом еще вспоминали, когда из немецкой посуды щи хлебали, как купец на пацана кричал-ярился, квас сырым называл, а тот ему все про мяту толковал. Так прозванье к нему и пристагю-приклеилось, прозвали Сыромятниковым, а как стал человеком большим, то обращались с поклоном, с почтеньицем.
А дело у него с тех самых нор в гору пошло, иных обошло. Капитал свой с кваса скопил, заводик выстроил, пароходик купил. О нем по всей Сибири знали-слыхали, всегда уважали. Про него даже поговорка была сложена: мол, дел-заделий, хлопот, как у самого Сыромятникова.
Вот тот прудок в память о нем и остался.
Меж двух горок лежит, водица из него бежит-журчит, побулькивает. А вот секрета, как квас свой особый делать-настаивать, нам купец Сыромятников не завещал, не оставил. А, видать, хорош квас был, коль весь Тобольск его пил и до сих пор помнит-вспоминает, гостям рассказывает!
Про Панин бугор и Илью-пророка
Чванливых да спесивых нигде не любят, не голубят, в друзьях-сводниках не держат. Бритва хоть и остра, а кому сестра? У спесивого что кол в шею врос, потому и дерет кверху нос. Для спесивого хвала лучше дара всякого. Только спесивый дома обедает, друзей не ведает. Сатана гордился, с неба свалился, фараон гордился, в море утопился, а коль мы загордимся, куда годимся? Зато смиренье – Богу угожденье, уму просвещены, душе спасенье, дому благословенье и людям утешенье.
Вот так деды наши по старинке жили, молодых уму-разуму впрок учили. И у нас в Сибири всяко служили, кто самому царю, а кто первому фонарю. Одни сюда по доброй воле ехали-селились, а иные по Владимирке в кандалах тащились. Всех Сибирь-матушка принимала-прощала, ситным хлебом угощала, кому без соли горбушку, кому табаку понюшку. Коль кто Богом не забыт, тот и сыт. Только ангелы с неба не просят хлеба, поп да петух, не евши, поют, а остальной народ с работы живет.
Но привезли как-то с мест дальних к нам в Сибирь бар-панов скандальных – ни пахать, ни сеять совсем не разумеют. И гроша не стоят, а глядят рублем, ходят гоголем, нос кверху дерут, мужиков за людей не признают. Спрашивают их: «Откуль такие, господа дорогие? Что вашему пригожеству до нашего убожества? Поди, ехали в Париж, да наткнулись на кукиш, к нам в Тобольск завезли, да и бросили в пыли!»
А те в дорогую одежду, в парчу-бархат ряжены-выряжены, руки в бока уткнули, шапки на глаза надвинули, усища висят ажно до плеч, не поймут, о чем речь.
– Мы, – говорят, – кровей панских-дворянских, вам не чета, сермяжная простота.
– Много в вас спеси дворянской, да участь хуже крестьянской, – мужики им отвечают. – Смеялся горох, что лучше бобов, а как дождь упал, и он пропал. Коль в Сибирь попали, то забывайте, как раньше звали. Был высок каблучок, да подломился на бочок.
Пошумели-покуражились мужики над панами-барчуками, по домам разошлись, своим делом занялись. А тех расселили-развели, кого куда не на день-денек, на года горе мыкать, вину искуплять, Сибирь обживать. Носи платье, не скидывай; терпи горе, не сказывай!
Прошло время-срок, обжились-приспособились, кто как мог, паны-панове на нашей воле, на чужой доле. Кто лавку открыл, кто коровку купил. Лучше гнуться пополам, чем надвое переломиться, с бедой замириться. Быстро слетает спесь, когда захочется поесть. Стали помаленьку строить-обустраиваться, на долгое житье настраиваться. Те, что побогаче, от других жили иначе. Дома ставили крепкие, высокие, окна не на наш манер широкие. У кого оконца из брюшины, там и жители кручинны, а у кого стеклянны, то и баре веселы. Свой уголок – свой простор. Каково в дому, таково и самому.
Не прошло и пяти годков, как выстроился цельный околоток меж гор-холмов подле речки-ручейка, где вместо мостика доска. День-деньской паны-панове сидят в своей хороме, а к вечеру-вечерку сойдутся на лужку барыни в шляпах, в лентах цветных, в платьях атласных кружевных, а господа-панове в модной обнове. У бабенок в руках зонты-зонтики, сами что белые пончики, лучиков солнечных боятся, кожицей нежной-розовой гордятся, выступают павушкой, так бы и назвал ладушкой. Сами баре в глазища стекол понавставляют, за собой курчавых мопсиков таскают. Нашенские же псы кудлатые в своры-стаи собьются-соберутся, с мопсиками в драку рвутся, тяв-гав на свой устав. А баре в них камнями-шайками швыряют, от шавок своих отгоняют. Боятся спортить породу от нашего приплоду. А коль блохи псовые на мопсов нападут, то вусмерть загрызут. Походят они так по лужку, потабунятся, нигде не садятся, чтоб платьев-нарядов не измазать, не помять и айда до утра спать, другой вечерок поджидать. Их день – зевать на плетень, а наш черед и сам придет, нуждой проймет.
Так и жили паны-панове своим табором, как одним двором. На мужиков поглядывали искоса да свысока, хоть в глазах тоска.
Был среди них один совсем важный пан-господин: шейка пестиком, губки бантиком, смотрится франтиком, не ходит, а летает, глазищами сверкает. Видать, шибко высокого рода, как лопух среди огорода. Водиться-знаться ни с кем не желает, а тронешь, сам мопсом залает. Слова доброго сроду не скажет, а только фыркает-шмыркает, киснет-морщится, словно ему неможется. Такой по лесу пойдет, о березу лоб расшибет, повелит спилить: мол, не там стоит. Только слышно: «Фыр да фыр», что старый фитиль. Может, и звали его когда-то Иванычем, а у нас прозвали Фыр Фырычем. Так и звали-величали, заглазно кликали. Чего тут думать-гадать, коль этакая стать.
Вот и задумал тот Фыр Фырыч свой дом-хоромину на высоком бугре срубить-поставить, всех обставить, на горку повыше взобраться, наиглавным оказаться. Такого пусти в избу погреться-обыгаться, а он уж деток крестить следом тащит, на хозяина глаза таращит.
Был в то время подле города крутой бугор, где сам черт бородой землю мел, – ни спуска, ни взвоза, никакого провоза. Пока вверх лезешь, весь вспотеешь, а вниз спускаешься, вконец изругаешься. Да Фыр Фырычу тому все нипочем: ходит руки калачом, мужиков-работничков собрал-созвал, в котором месте дом ставить показал. А наше дело какое? Ни первое, ни второе. Клен да ясень – плюнь да наземь. Взяли в руки топор, поперли бревна на бугор, покрякивая, бородами помахивая, шапки-шапочки сбили на затылок, вся кровь в загривок. Пообещай мужику хорошую деньгу, он и согнется в дугу, мат, все смогу. В одно лето быстрехонько сруб срубили, венцы сложили, под крышу подвели, железом покрыли. Вышли хоромы царские, покои барские: крылечки точеные-резные, оконца кружевом расписные. А сами работнички, бородатые плотнички, сели в тенек на бревнышко, чтоб не жгло солнышко, сидят, ждут, когда им расчет принесут.
Вышел-таки к ним Фыр Фырыч на ходульных ногах, с плеткой в руках, со спесью панской, расфуфыренный, что петух голландский, сапожки на нем блеском блестят, усища к небу торчат. На мужиков глянул-зыркнул, по-своему фыркнул, стеклышко в глазище вставил, ножку на лавочку поставил, хлыстиком-плеточкой по сапожку щелк-щелк, а глядит, как на овцу волк. Спрашивает:
– Чего расселись на моем дворе, как курицы на плетне?
– Ваше благородь! Уж ты нас угодь, прикажи рассчитать, денежки подать. – Мужики шапки сняли-скинули, к нему придвинули.
– Да кто же расчет сразу дает? – он им бает-отвечает, ножкой качает. – Дом едва выстроили-сложили, а уже и денежку запросили…
– А как же иначе?! Как водится… – мужики вокруг хороводятся.
– Надобно еще посмотреть-подождать, как он будет стоять. А вдруг да упадет-рассыплется, а то вниз унесет, ветром крышу собьет. Приходите через год, коль дом до той поры доживет. Выдам расчет, кто сколь унесет. – И дверью хлоп, закрыл на засов.
Нашенские мужики хоть и простаки, а такого поворота-обману отродясь не слыхали, не видывали, шапки на землю поскидывали, да и айда материть-костерить не за то, что их обмишурили-обмерили, а за то, что дураки, барскому слову поверили. И положили на дом тот страшное заклятье, вечное проклятье: «Пусть Илья-пророк нас рассудит и пана-барчука за обман погубит. Жалко нам труд рук своих, да пусть этот дом-хоромина огнем горит-полыхает, дотла сгорает. Помоги нам, Илья-пророк, суд-расправу свершить, за чванство-спесь барчуку отомстить». Щепочку из осины заострили и в паз меж бревен вбили.
К вечеру того же дня натянуло-нагнало туч черных свинцовых, засверкало-забухало, полетели вниз стрелы-молнии, гвоздят-впиваются, в землю грешную вонзаются. Ветрина деревья валит-крушит, силищей народ страшит. И первой же стрелой-молнией угодило в дом-хоромину папскую, зажгло-запалило с конька до самого нижнего бревнышка. Пан-барчук в чем был, в том и выскочил: в одном сапоге, с плеткой-хлыстиком в руке. Побегал-попрыгал, ножкой подрыгал меж головешек-угольков, разбитых черепков. Покрутил усищами опаленными, в огне прокопченными, черта помянул, на огонь сплюнул. Да и поплелся в нижнем белье под горочку, мыкать горькую долюшку. А что делать, коль на всякую спесь свой закон есть.
Вот так за мужиков-простаков Илья-пророк заступился, с барином-барчуком поквитался-расплатился. А бугор с тех самых пор Паниным зовут, жилья там не ставят, внизу живут. Вот так оно бывает, кто много о себе воображает.
Коль пуще всех возгордился, глядишь, с бугра свалился, вниз покатился, низехонько опустился…
Про жар, про пар, про лог Банный
Жили когда-то два брата. Не то чтобы худо, но и не богато. У первого – жена кривая, у второго – мордой рябая. Та, что кривая, за шитьем сидит, муженьку из тулупа штаны кроит, а рябая стряпать любила, на окрошку к обеду комара крошила-шинковала, ножки на холодец оставляла.
– Бери за так. Мой квас семерых от смерти спас. А вот восьмой не напился, на телеге ехал, уснул, в овраг завалился. С тех пор его не видали, слыхом не слыхали. Кто квасок мой не пьет, тот свой товар не продает. Точно, дядя, бери не глядя. Мой квасок не про всякий роток. Он у меня ядреный, на луну-месяц заговоренный. Кто его отхлебнет, тот за свой товар хорошую деньгу возьмет.
Мужик башкой крутит-вертит, мозгой шевелит, хоть умом туговат, да в другом тороват: «И впрямь для начала – почину разгоню кручину, выложу пятачок, впереди денек, с торговли лишку возьму, авось наторгую за день поболе, коль Божья воля». Засопит, закряхтит, платочек с денежкой вытащит, пятачок выложит, примет кваску хваленого, на вкус ядреного.
– Не квас, а квасище, ока силища! – Мужик крякнет, в ладошки шмякнет. – На чем таком деланый, настоянный?
– Да он у меня с коричкой, с гвоздичкой, с лимонной корочкой, с листом мятным, для людей сладким. Счастливо, дядя, торговать, все до вечера распродать.
И ведь точно! В аккурат по его слову-уговору все и складывалось-получалось! Уже к полудню распродаст мужик свой товар, доволен-радехонек, едет с базара домой веселехонек, в трактир завернет, шкалик возьмет, мальца-квасника добрым словом помянет.
А вот с теми, кто от кваску того отказывался-отнекивался, всякое случалось: то обворуют, то лошадь уведут-подменят, а то покупатель не идет, товар не берет. Вот и пошел обычай-привычка на базаре среди мужиков с утра, спозаранку, кваску того на счастье-удачу принять, доброе слово заветное от мальца услыхать, а лишь потом торговлю начинать. И им ладно, и ему в прибыток, коль на пользу напиток.
А однажды приехал-пожаловал в Тобольск-город с-о-о-лидный купчина с десятью возами товара для нашенских мест дорогого, редкого, ранее невиданного. Сказывали, будто с самого Нижнего Новгорода привез он посуду с фарфора немецкого, ценного, для важных людей припасенного, из-за границы привезенного. И обустроился тот купчина, дюжий детина, со всеми десятью возами прямехонько посередь базару, словно царев слуга, его правая рука. Никакого ходу-проходу не стало. Но мужики смолчали, обиду от купчины того в бородах зажевали, вострым глазом поглядывают посматривают, как у него торг пойдет-сладится.
Тут к нему прямехонько-точнехонько пацан наш с квасом-кваском и подбегает-подскакивает, кружечку протягивает с приветом-улыбочкой: мол, испей, человек добрый, кваску, разгони тоску. А тот кружечку принял-взял, ко рту поднес, отхлебнул-пригубил, сморщился, словно дохлятину какую учуял-унюхал, да на землю и плесканул-вылил.
– Сырой твой квас, поганый. Не настоялся еще, силу не набрал. А ты народ дуришь-обманываешь. Пошел вон, пока целехонек, а то уши не надеру, будь радехонек.
Пацан обиду стерпел-проглотил, да голову не опустил, отвечает вежливо тому приезжему:
– Ты, дядя, пока не внакладе, зря меня не обижай, худым словом не называй, перед народом не срами, а пятачок гони.
– За что платить, коль не пил, лишь усы обмочил?
– А то не мое дело-знатье за твое житье. Не знаю, как у вас, а здесь знают мой квас. Все пробовали-пивали, плохого слова не сказали.
– Ну и дурни-обалдуи. Не стану платить за сырой квас, и весь мой сказ.
– Это с чего он сырой, коль с мятой настоянный. – Малец чуть не плачет, а от своего не отступает. – Он у меня с коричкой, с гвоздичкой, с лимонной корочкой…
– Не стану платить за сырую воду! Хоть тресни! – Купчина уперся, тоже в раж вошел-разошелся, набычился.
– Так, видать, мой квас совсем не про вас. Ты, купчина-дурачина, с воды давно пьян, с квасу бесишься, за пятак повесишься!
– Ах, ты еще почтенного человека обзывать-дразнить станешь! – Купчина с воза слез-спрыгнул, на мальца накинулся. А тот, не будь плох, плесканул ему из жбана квасом в глаза и айда наутек, как тот волчок. Купчина за ним, руки растопырив-раскинув, бежит-летит, озирается, рукавом отирается. Да разве пацана верткого-проворного догонишь-словишь, свою честь лишь уронишь. Да и местные мужики на подмогу не кинутся, а всяк норовит купцу дорогу загородить, в сторону сбить, то ножку подставят, то к возу придавят.
И пока он по всему базару за парнишкой бегал-гонялся, зазря надрывался, половину посуды дорогой-редкостной у него растащили-разграбили, кто сколь мог с собой уволок. Да еще остатки наземь сбросили, побили-растоптали, все распластали. У нас народ-то лихой, на обиду-укор памятной, поперек пойдешь и волос не найдешь. Когда купчина, запыхавшись-набегавшись, к возам вернулся, то чуток умом не тронулся. В такой убыток-разор вошел, верно, нищим по свету пошел. Городовой с околоточным заявились, сочувствуют-кивают, да только все понимают. Где кого найдешь-сыщешь, когда все всё видали, да словно в рот воды набрали, никто ни на кого не показывает, ничего не рассказывает. Хоть космат, да не медведь, хоть черен, да не ворон. Так ни с чем тот купец и уехал-пропал, в Тобольск больше носу не совал. Что не нашего роду, не пойдет в угоду, а коль Бог накажет, то кто прикажет…
Долго потом еще вспоминали, когда из немецкой посуды щи хлебали, как купец на пацана кричал-ярился, квас сырым называл, а тот ему все про мяту толковал. Так прозванье к нему и пристагю-приклеилось, прозвали Сыромятниковым, а как стал человеком большим, то обращались с поклоном, с почтеньицем.
А дело у него с тех самых нор в гору пошло, иных обошло. Капитал свой с кваса скопил, заводик выстроил, пароходик купил. О нем по всей Сибири знали-слыхали, всегда уважали. Про него даже поговорка была сложена: мол, дел-заделий, хлопот, как у самого Сыромятникова.
Вот тот прудок в память о нем и остался.
Меж двух горок лежит, водица из него бежит-журчит, побулькивает. А вот секрета, как квас свой особый делать-настаивать, нам купец Сыромятников не завещал, не оставил. А, видать, хорош квас был, коль весь Тобольск его пил и до сих пор помнит-вспоминает, гостям рассказывает!
Про Панин бугор и Илью-пророка
Чванливых да спесивых нигде не любят, не голубят, в друзьях-сводниках не держат. Бритва хоть и остра, а кому сестра? У спесивого что кол в шею врос, потому и дерет кверху нос. Для спесивого хвала лучше дара всякого. Только спесивый дома обедает, друзей не ведает. Сатана гордился, с неба свалился, фараон гордился, в море утопился, а коль мы загордимся, куда годимся? Зато смиренье – Богу угожденье, уму просвещены, душе спасенье, дому благословенье и людям утешенье.
Вот так деды наши по старинке жили, молодых уму-разуму впрок учили. И у нас в Сибири всяко служили, кто самому царю, а кто первому фонарю. Одни сюда по доброй воле ехали-селились, а иные по Владимирке в кандалах тащились. Всех Сибирь-матушка принимала-прощала, ситным хлебом угощала, кому без соли горбушку, кому табаку понюшку. Коль кто Богом не забыт, тот и сыт. Только ангелы с неба не просят хлеба, поп да петух, не евши, поют, а остальной народ с работы живет.
Но привезли как-то с мест дальних к нам в Сибирь бар-панов скандальных – ни пахать, ни сеять совсем не разумеют. И гроша не стоят, а глядят рублем, ходят гоголем, нос кверху дерут, мужиков за людей не признают. Спрашивают их: «Откуль такие, господа дорогие? Что вашему пригожеству до нашего убожества? Поди, ехали в Париж, да наткнулись на кукиш, к нам в Тобольск завезли, да и бросили в пыли!»
А те в дорогую одежду, в парчу-бархат ряжены-выряжены, руки в бока уткнули, шапки на глаза надвинули, усища висят ажно до плеч, не поймут, о чем речь.
– Мы, – говорят, – кровей панских-дворянских, вам не чета, сермяжная простота.
– Много в вас спеси дворянской, да участь хуже крестьянской, – мужики им отвечают. – Смеялся горох, что лучше бобов, а как дождь упал, и он пропал. Коль в Сибирь попали, то забывайте, как раньше звали. Был высок каблучок, да подломился на бочок.
Пошумели-покуражились мужики над панами-барчуками, по домам разошлись, своим делом занялись. А тех расселили-развели, кого куда не на день-денек, на года горе мыкать, вину искуплять, Сибирь обживать. Носи платье, не скидывай; терпи горе, не сказывай!
Прошло время-срок, обжились-приспособились, кто как мог, паны-панове на нашей воле, на чужой доле. Кто лавку открыл, кто коровку купил. Лучше гнуться пополам, чем надвое переломиться, с бедой замириться. Быстро слетает спесь, когда захочется поесть. Стали помаленьку строить-обустраиваться, на долгое житье настраиваться. Те, что побогаче, от других жили иначе. Дома ставили крепкие, высокие, окна не на наш манер широкие. У кого оконца из брюшины, там и жители кручинны, а у кого стеклянны, то и баре веселы. Свой уголок – свой простор. Каково в дому, таково и самому.
Не прошло и пяти годков, как выстроился цельный околоток меж гор-холмов подле речки-ручейка, где вместо мостика доска. День-деньской паны-панове сидят в своей хороме, а к вечеру-вечерку сойдутся на лужку барыни в шляпах, в лентах цветных, в платьях атласных кружевных, а господа-панове в модной обнове. У бабенок в руках зонты-зонтики, сами что белые пончики, лучиков солнечных боятся, кожицей нежной-розовой гордятся, выступают павушкой, так бы и назвал ладушкой. Сами баре в глазища стекол понавставляют, за собой курчавых мопсиков таскают. Нашенские же псы кудлатые в своры-стаи собьются-соберутся, с мопсиками в драку рвутся, тяв-гав на свой устав. А баре в них камнями-шайками швыряют, от шавок своих отгоняют. Боятся спортить породу от нашего приплоду. А коль блохи псовые на мопсов нападут, то вусмерть загрызут. Походят они так по лужку, потабунятся, нигде не садятся, чтоб платьев-нарядов не измазать, не помять и айда до утра спать, другой вечерок поджидать. Их день – зевать на плетень, а наш черед и сам придет, нуждой проймет.
Так и жили паны-панове своим табором, как одним двором. На мужиков поглядывали искоса да свысока, хоть в глазах тоска.
Был среди них один совсем важный пан-господин: шейка пестиком, губки бантиком, смотрится франтиком, не ходит, а летает, глазищами сверкает. Видать, шибко высокого рода, как лопух среди огорода. Водиться-знаться ни с кем не желает, а тронешь, сам мопсом залает. Слова доброго сроду не скажет, а только фыркает-шмыркает, киснет-морщится, словно ему неможется. Такой по лесу пойдет, о березу лоб расшибет, повелит спилить: мол, не там стоит. Только слышно: «Фыр да фыр», что старый фитиль. Может, и звали его когда-то Иванычем, а у нас прозвали Фыр Фырычем. Так и звали-величали, заглазно кликали. Чего тут думать-гадать, коль этакая стать.
Вот и задумал тот Фыр Фырыч свой дом-хоромину на высоком бугре срубить-поставить, всех обставить, на горку повыше взобраться, наиглавным оказаться. Такого пусти в избу погреться-обыгаться, а он уж деток крестить следом тащит, на хозяина глаза таращит.
Был в то время подле города крутой бугор, где сам черт бородой землю мел, – ни спуска, ни взвоза, никакого провоза. Пока вверх лезешь, весь вспотеешь, а вниз спускаешься, вконец изругаешься. Да Фыр Фырычу тому все нипочем: ходит руки калачом, мужиков-работничков собрал-созвал, в котором месте дом ставить показал. А наше дело какое? Ни первое, ни второе. Клен да ясень – плюнь да наземь. Взяли в руки топор, поперли бревна на бугор, покрякивая, бородами помахивая, шапки-шапочки сбили на затылок, вся кровь в загривок. Пообещай мужику хорошую деньгу, он и согнется в дугу, мат, все смогу. В одно лето быстрехонько сруб срубили, венцы сложили, под крышу подвели, железом покрыли. Вышли хоромы царские, покои барские: крылечки точеные-резные, оконца кружевом расписные. А сами работнички, бородатые плотнички, сели в тенек на бревнышко, чтоб не жгло солнышко, сидят, ждут, когда им расчет принесут.
Вышел-таки к ним Фыр Фырыч на ходульных ногах, с плеткой в руках, со спесью панской, расфуфыренный, что петух голландский, сапожки на нем блеском блестят, усища к небу торчат. На мужиков глянул-зыркнул, по-своему фыркнул, стеклышко в глазище вставил, ножку на лавочку поставил, хлыстиком-плеточкой по сапожку щелк-щелк, а глядит, как на овцу волк. Спрашивает:
– Чего расселись на моем дворе, как курицы на плетне?
– Ваше благородь! Уж ты нас угодь, прикажи рассчитать, денежки подать. – Мужики шапки сняли-скинули, к нему придвинули.
– Да кто же расчет сразу дает? – он им бает-отвечает, ножкой качает. – Дом едва выстроили-сложили, а уже и денежку запросили…
– А как же иначе?! Как водится… – мужики вокруг хороводятся.
– Надобно еще посмотреть-подождать, как он будет стоять. А вдруг да упадет-рассыплется, а то вниз унесет, ветром крышу собьет. Приходите через год, коль дом до той поры доживет. Выдам расчет, кто сколь унесет. – И дверью хлоп, закрыл на засов.
Нашенские мужики хоть и простаки, а такого поворота-обману отродясь не слыхали, не видывали, шапки на землю поскидывали, да и айда материть-костерить не за то, что их обмишурили-обмерили, а за то, что дураки, барскому слову поверили. И положили на дом тот страшное заклятье, вечное проклятье: «Пусть Илья-пророк нас рассудит и пана-барчука за обман погубит. Жалко нам труд рук своих, да пусть этот дом-хоромина огнем горит-полыхает, дотла сгорает. Помоги нам, Илья-пророк, суд-расправу свершить, за чванство-спесь барчуку отомстить». Щепочку из осины заострили и в паз меж бревен вбили.
К вечеру того же дня натянуло-нагнало туч черных свинцовых, засверкало-забухало, полетели вниз стрелы-молнии, гвоздят-впиваются, в землю грешную вонзаются. Ветрина деревья валит-крушит, силищей народ страшит. И первой же стрелой-молнией угодило в дом-хоромину папскую, зажгло-запалило с конька до самого нижнего бревнышка. Пан-барчук в чем был, в том и выскочил: в одном сапоге, с плеткой-хлыстиком в руке. Побегал-попрыгал, ножкой подрыгал меж головешек-угольков, разбитых черепков. Покрутил усищами опаленными, в огне прокопченными, черта помянул, на огонь сплюнул. Да и поплелся в нижнем белье под горочку, мыкать горькую долюшку. А что делать, коль на всякую спесь свой закон есть.
Вот так за мужиков-простаков Илья-пророк заступился, с барином-барчуком поквитался-расплатился. А бугор с тех самых пор Паниным зовут, жилья там не ставят, внизу живут. Вот так оно бывает, кто много о себе воображает.
Коль пуще всех возгордился, глядишь, с бугра свалился, вниз покатился, низехонько опустился…
Про жар, про пар, про лог Банный
Жили когда-то два брата. Не то чтобы худо, но и не богато. У первого – жена кривая, у второго – мордой рябая. Та, что кривая, за шитьем сидит, муженьку из тулупа штаны кроит, а рябая стряпать любила, на окрошку к обеду комара крошила-шинковала, ножки на холодец оставляла.