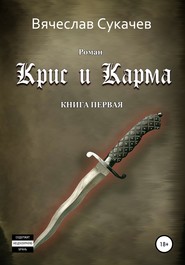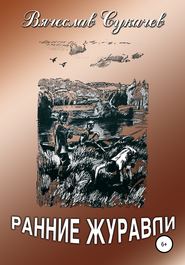По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В той стороне, где жизнь и солнце
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да так.
– Рассказывай, если начал, нечего волынить.
– Сейчас, – Гошка опять хохотнул.
III
– Жду я вечера, – еще не совсем справившись со смехом, продолжал Гошка, – сил моих нет. В обед с братухой по маленькой пропустили, вроде бы полегчало… Я ему и рассказываю про негаданную встречу. Он посмеялся: знаю, говорит, о ком ты толкуешь, Люська это Головина, Насти Головиной дочка. У нее, мол, и мать красавица была, да и теперь еще не слиняла. Но строга, не подступись, – и на дверь оглядывается, чтобы жена, значит, не подслушала. В девках, братуха говорит, сошлась с одним мореманом, Люську прижила, а мореман вскорости и смылся. И больше ни один мужик, кроме того моремана, ее не знал. Такой характер твердый, не бабский. Ну, я слушаю, на ус мотаю. Как про мать разговор зашел, мне и Люська та понятней стала. Скумекал я, с какого бока к ней подъезжать надо. Яблоко от яблони, известно, недалеко падает… В общем, протащился день, и сумерки заходят. Как только чуток стемнело, я в моторку и погнал к тому месту, где их днем высаживал. Пристал к берегу, сел на носу и смолю одну сигарету за другой. Где-то гитара затренькала, коровы мычат, а я сижу и покуриваю. Зло меня разбирает, не придет, думаю. Мало ли шпаны за ней крутится, с гитарами там, со стишками, а я что – под тридцать уже давит. Уезжать собрался, когда, слышу, камушки с косогорчика покатились: идет кто-то… Моя, значит, все-таки взяла, а не какие-нибудь там шпингалеты с магнитофонами. Прыгнул я с лодки, стою, жду. Матушки, подходят двое! Очкастую приперла с собой. Кино, а не свидание. Ну, конечно, я вида не подаю. Милости просим, мол, в лодочку, сейчас я вас с ветерочком, да по ухабам… Там, в Тахте, если кто бывал, знает, под утесом завсегда волнолом, в любую погоду. Вот я туда и дунул. Люсю рядом с собой усадил, а та, дура очкастая, на корме приткнулась. Ну и пошел краковяк. Волны выше бортов, корму брызгами заливает, очкастая вопит, страшно ей там, одной, да еще и мокро, а мы с Люськой за ветровым стеклом, у нас Сухуми. Она было сунулась к очкастой, но тут уже я не зевал: одной рукой за баранку, второй – за ее бочок. Тепленькая, как кошка, слышно, как сердце стучит. Эх, ребята, бывают в жизни моменты. Она вначале еще упиралась, да где там, лодку швыряет с боку на бок, хошь не хошь, а прижмешься. Выскочил я из-под утеса, отпустил ее, она к подруге. Это ничего, думаю, быстрее по мне соскучится. А ночка выдалась – звезды с кулак, низко висят, луна ровно землю в первый раз увидела. Вода спокойная, так и прет под лодку. Пигалицы сзади притихли.
– Еще разочек? – кричу им.
– Я на вас пожалуюсь, – очкастенькая визжит, а на самой сухого места нет: – Прекратите безобразие! Везите нас домой.
– Пожалуйста, – отвечаю, – домой так домой… Подхватил я прежним макаром Люсю из лодки, а она уже ничего, смирная, головку мне на плечо положила.
– Приходи, – говорю я ей, – завтра одна. Ну ее к черту, подружку твою. Придешь?
– Приду, – вздохнула она.
IV
Ночь я не спал. Какой там сон, все пигалица эта мерещится. Глаза закрою и ее вижу. Хохма, влюбился, да и только. А вот как день проскочил – не заметил. Надраил я моторку до блеска, снаряжение на ночевку наладил. В магазин сбегал, водки и шампанского купил, закусок разных. Все чин чинарем. Учить не надо. Ну, суть да дело и вечер приспел. А я уже чувствовал, что сегодня или грудь в крестах, или голова в кустах. Припозднился специально, уже по темени от берега отвалил. Пристаю на место, гля – стоит, дожидается. Одна-одинешенька. Беленькое платьице надела, словно под венец собралась…
Только недолго, – просит она меня.
Конечно, недолго, какой разговор.
Обнял я ее тут же, поцеловал. Затрепыхалась она, словно рыбка в сачке, а сама еще и целоваться-то не обучилась. В общем, погнали мы. Знал я один островок там. Над самой водой сплошной ракитник, а чуть дальше пройдешь, песок, травка – благодать. Хода, правда, около часа туда, но я горючкой запасся. Прикатили. Вынул я ее из лодки, на берег поставил. Молчит, глазенками лупает… Теперь-то я соображаю, что она уже тогда обо всем догадывалась, понимала, что к чему, а молчала вот же. Ни гу-гу. Насобирал я хвороста, костер запалил, закусь из сумки выволок, на специальную клеенку разложил, чтобы, значит, песок на продукты не попал, ну и ей: садись, мол, царица, пировать будем. А она на меня глазенки пялит, не садится… Подберет прутик, бросит в костер и опять стоит молча. Ну, понятно, я не тороплю ее, зачем, вся ночь впереди, да и чувствовал уже, что никуда она от меня не денется. Достал стакашки, пальнул из шампанского, налил ей, а себе водки. Она – ноль внимания. Ладно, выпил один. Не гордый. Закурил. Хорошо, думаю, не шилом, так мылом, а все равно по-нашему будет. И давай я ей заливать про мою тяжелую жизнь, уж чего только не наплел, вспоминать тошно. А она верит, дурочка, вытаращилась на меня, в глазенках слезы стоят. Присела незаметно, на руку оперлась, головку набок свесила, а волосы так и льются с ее головы, губки пухленькие, красные. Я заливаю ей, а сам едва сдерживаюсь, чтобы к ней не кинуться. В роль вошел, до того дотрепался, что самого себя жалко стало. В горле запершило. Налил себе вторую, опрокинул.
– Дайте и мне, – говорит вдруг она.
Я еще немного помедлил для приличия, вроде как раздумывал, дать или не дать. Выпила она, конфетку съела, на меня смотрит. А я хлоп на живот и отвернулся. Курю. Чувствую, пересаживается она поближе. Потом рукой по голове гладит, вздыхает. Ну и про себя начала рассказывать, про свои горести, а какие у нее там горести – смех один. То преподавательница какая-то ее не любит, то сама она кого-то обидела, туфли на танцы не дала. Ну и дальше все в таком же порядке. Потянул я ее к себе, а она не сопротивляется. Легла рядом и заплакала. Чего ты, говорю ей, дурочка? Все одно ведь когда-то надо начинать.
– Меня мальчик один любит, – говорит она мне.
– Это который Броня, что ли? – спрашиваю ее.
– Да. Он очень хороший. По иностранному мне помогал.
– А как ты, любишь его?
– Не знаю.
– Вот что бы вы сделали в этом случае? – вдруг обратился Гошка к мужикам, глядя на них с веселой иронией. Те неопределенно пожали плечами, пользуясь паузой, завозились, удобнее устраиваясь вокруг костра. – Небось, силой бы поперли, а? Конечно, можно было и силой, – размышлял Гошка, – только в этом интереса мало. А я вот по-другому политику повел. Как? А очень просто. Сделал видуху, что обиделся, приревновал. Отпустил ее и отвернулся. Она вначале притихла, потом завозилась. Непонятно ей, что такое со мной случилось. Потом приникла уже сама ко мне и спрашивает:
– Вы обиделись, что тот мальчик меня любит? – Я молчу. Лежу как каменный. – Но мы ведь даже не целовались. Он хороший, это правда, но мы не целовались.
– Между прочим, – говорю я ей, – зовут меня Георгий и хватит мне выкать. Я тебе не дядя.
– Хорошо, – говорит она покорно, – больше не буду.
– Ну, а его ты все-таки любишь или нет? – опять спрашиваю я.
Молчит. Врать-то еще не научилась и опять же в другой раз меня обидеть боится. Долго она молчала, а потом и бухнула:
– Ты мне очень понравился. Еще тогда, в первый раз, в лодке.
Обнял я ее, а она уже и не сопротивляется, и не плачет, и меня вроде бы как обнять налаживается. В общем, все в норме…
С этого дня и пошла потеха. Привязалась ко мне, словно собачонка. Записки подбрасывает, на каждом шагу навстречу попадается, ну и всякие там детские штучки… А мне уже сматываться пора было. Отпуск заканчивался. Да и мать ее, кажется, что-то проведала. На меня зверем смотрит, здороваться перестала. В общем – климат не тот, чтобы и дальше у братухана разгуливать. Одна загвоздка: как уехать? Если сказать ей, еще на пристань прибежит, вой поднимет. Они же, бабы, известно как в таких случаях… Ну, я и придумал хохму одну. Говорю ей, ты завтра днем на утес приходи. Я, может быть, задержусь маленько, так ты жди. А она ровно почувствовала что-то, загрустила и спрашивает меня:
Ты, наверное, уедешь скоро?
Нет, – говорю ей, – еще не скоро.
Я ведь понимаю, – она мне, – но только бы хоть иногда видеть тебя.
Увидишь…
– Я хоть куда к тебе приеду. Ты только напиши мне, – говорит она, – а уж я приеду.
– Ладно, напишу. Не забыла – завтра на утесе.
Ну и, значит, на другой день я занял на теплоходе каюту, с братухой дерябнули порядочно на прощание и отвалил. Как подошли к утесу, выглянул я в иллюминатор. Смотрю, стоит моя кроха на утесе. Принарядилась, в руках букетик цветов, должно быть, для меня насобирала, и стоит. Ум… мо… ра…
Гошка закинул назад русую голову и громко расхохотался. Но, видимо, что-то насторожило его. Он резко оборвал смех, выпрямился всем своим мощным красивым телом и медленно обвел мужиков взглядом.
Промысловики не смеялись. Катилась в темном небе круглая луна, медленно догорал костер и… никто не смеялся.
Скорпион
I
Когда метель закончилась и встало над селом мутное далекое солнце, все увидели, что домишко Нинки Безруковой засыпан по самую крышу, а из трубы жиденько вьется синий дымок. Собравшиеся мужики несколько раз обошли Нинкино жилье, осмотрели со всех сторон, но никаких входов-выходов не обнаружили. Тогда Володька Басов полез на крышу и начал кричать в трубу. Но и из этого ничего не вышло. Володька только дыма наглотался. Мужики посовещались и решили откапывать.
Серега Безруков тут же стоял, небрежно сунув руки в карманы полушубка. Он внимательно следил за всеми действиями мужиков, презрительно усмехался и щурил свои продолговатые по-женски красивые глаза.
Когда лопата первый раз сухо скребнула по двери, Серега переместился поближе и закурил.
– Эй, Нинка! – закричал Володька Басов. – Жива, что ли?
– Жива, – донесся приглушенный Нинкин голос.
– Сейчас откопаем. Не гоношись…
Серега Безруков сплюнул окурок в снег, постоял еще немного и пошел по улице, переметенной высокими сугробами. Уход его все заметили, особенно женщины, и тут же посыпались шепотки, догадки, предположения.
Нинка вывалилась из двери, как из берлоги, патлатая, в одном платье, в тапочках на босу ногу. Чмокнула в щеку Вовку Басова ( Басиха нахмурилась и полезла ближе к мужу), засмеялась, еще кого-то поцеловала мимоходом, расплакалась и упала женщинам на руки.