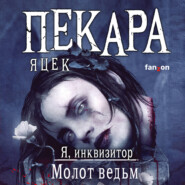По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Меч ангелов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И кому какое дело? – спросил я. – Десятки трупов таких вот, как он, каждую ночь вывозят из города и хоронят в Ямах.
Поэт выхлебал пиво до дна, в очередной раз вздохнул.
– Есть у вас немного времени? – спросил. – Может, захотите взглянуть на представление, которое мы готовим? Это рыцарский роман, – добавил. – И верите ли, нет ли, но случилось сие без вмешательства епископской канцелярии.
– Да неужели? Видно, по недосмотру, – пошутил я. – Но с радостью взгляну на вашу работу, Хайнц. – Я допил пиво и со стуком отставил кружку на стол. – Блевать охота от такой мочи.
Мы вышли на улицу, где молодой дворянчик уже с заметным усилием лупил неподвижное, бурое и покрытое грязью тело, лежавшее в луже. Старый пьяница не шевелился, а вокруг собралась толпа зевак.
– Хватит, – сказал я, проходя мимо. – Свое он уже получил.
Дворянчик на миг прервался и замер с занесенным над головой хлыстом. Были у него красные щеки и округлое, перекошенное теперь гримасой ярости личико. Светлые редкие волосики приклеились ко вспотевшему лбу.
– А вам что за дело? – рявкнул дворянчик. – Ступайте своей дорогой, если сами не хотите получить…
– Следите за словами, вы ведь говорите с функционером Святого Официума, человече, – сценическим шепотом произнес Риттер, а дворянчик судорожно сглотнул. Зеваки принялись быстренько расходиться.
– Наверное, вы правы, – миролюбиво произнес дворянчик, подумав. – Но смотрите, как он измазал мой плащ, – добавил юноша обвиняющим тоном.
Он еще раз рассек хлыстом воздух, словно показывая, что дело вовсе не в том, с кем разговаривает, после чего повернулся к своему слуге.
– Возвращаемся домой, – приказал. – Не могу я показаться госпоже Гизелле в таком состоянии.
И ушел, напряженный, будто струна, похлопывая хлыстом по голенищу сапога. Даже не взглянул больше в нашу сторону.
– По крайней мере, мы сделали добрый поступок, спасши жизнь человека, – сказал Риттер, когда мы свернули на улицу, ведшую к месту, где его труппа проводила репетиции.
– Сделали? – пробормотал я. – Ну, будь по-вашему… Проблема, однако, не в жизни того пьяницы, господин Риттер. Я просто не люблю бессмысленной жестокости. Насилие должно быть словно острый меч, направленный в четко выбранное место. Только тогда его нужно использовать. Господь наш покарал тех, кто прибил Его к Распятию, и тех, кто издевался над Его мукой, но не думаю, что разгневался бы, коли б измазали Его плащ.
– Не всякий найдет в себе смиренность и терпение Христа, – ответил поэт.
– Святая правда, – признал я.
* * *
Сцена, на которой театр Риттера проводил репетиции, располагалась в огромном деревянном сарае, обнесенном кривой оградой из подгнивших досок. У входа на страже стоял один из актеров, поскольку театральные труппы тщательно охраняли свои секреты (или, по крайней мере, делали вид, что охраняют). Голова актера была увенчана рыжим париком, лицо – приклеенной искусственной раздвоенной бородкой. В руках он держал большой обоюдоострый топор. Увидев нас, он махнул им в воздухе, а по легкости, с которой это сделал, я понял, что топор, должно быть, деревянный, хотя и покрашен для обмана зрителей серебряной краской.
– Хайнц! – закричал актер. – Давай, мужик, все тебя ждут!
– Андреас Куффельберг, – представил его Риттер с усмешкой. – В приземленном мире – блудный сын уважаемой купеческой семьи, но в универсуме великого искусства – Танкред Рыжий, кровожадный вождь варваров.
– Хррраггхх! – завыл актер, вознося очи горе? и потрясая топором.
– Заклятый сей топор ведьмачьим даром
Я получил из рук одной старухи,
И в острие его сокрыты чары,
Чтоб пережить все воинские вьюги, – произнес хриплым басом.
Я поаплодировал, а он просиял и поклонился.
– Мастер Мордимер Маддердин – из Святого Официума, – пояснил ему Риттер, я же заметил, что он ожидает реакции товарища с чуть иронической и шаловливой усмешкой.
Однако ж Куффельберг нисколько не испугался его слов:
– Страшитесь, чаровницы, мрачных инквизиторов,
Блеск их креста глаза вам ослепит.
Страшитесь, ведьмы, страстных слов молитвенных
И пламени, что смерть вам осветит, – произнес он.
Я скривился:
– Насколько помню, эта пьеса запрещена к игре. И если судить по рифмам, искусство лишь выиграло от введения цензуры.
Куффельберг рыкнул смехом. Я отметил, что зубы у него здоровые и белые – редко встречающаяся в наши времена особенность.
– Я – всего лишь актер, или, как говорят, комедиант, – сказал он с притворной смиренностью. – И мне тяжело оценить великое искусство. Как и любое искусство вообще. Хотя то, что написал ты, Хайнц, мне нравится. Аааагррррх! – зарычал он снова, обнажая зубы. – Я – Танкред Рыжий, убийца девиц и страх епископов!
– Наоборот, – пробормотал Риттер холодным тоном.
– Ну да, – признался актер миг спустя. – Я погибаю в последнем действии, – пояснил он мне, – но до того там много веселого. Надеюсь, что вы не вырежете слишком многое, а то было бы жаль.
– Я здесь совершенно частным образом, – сказал я, но знал, что он мне не поверит.
Признаюсь, что мой интерес к искусству слова родился исключительно случайно. Конечно, в Академии Инквизиториума мы изучали некоторые современные и древние пьесы, а наши учителя объясняли, как в невинных на первый взгляд текстах отыскивать богохульную ересь. И вы бы удивились, милые мои, узнав, как много может вычитать между строк опытный инквизитор. Но знакомство с современной литературой, со всеми этими драмами, комедиями, поэмами, шутками и гротесками я свел благодаря печатному мастеру Мактоберту. Некогда я сумел очистить его доброе имя от ложных обвинений, выдвинутых завистниками (да-да, встречаются людишки, которые полагают, будто пламя Инквизиции может служить низким целям), – а благодарный печатник в ответ одаривал меня с тех пор издаваемыми им книгами. Их накопилась уже немалая стопка в моей комнате, но чтение доставляло мне в свободные минутки много приятного.
Я, понятное дело, был далек от мысли, что являюсь знатоком художественной моды, но со смирением признаю, что имел некоторое представление о том, какие звезды сияют на небосводе высокого искусства ярче всего. И конечно, вовсе не Хез, несмотря на свою величину, был городом, где творцы оставались желанными гостями. Аквизгран – имперская столица – превосходил нас в этом на голову: может, оттого, что Светлейший Государь и его свита прикрывали глаза на поэтические вольности и на выходки драматургов и художников. А в Хезе, под твердой рукою Его Преосвященства, со свободой творцов было не столь просто. Епископ Герсард полагал, что паяцев, жонглеров и воздушных акробатов вполне хватит, чтобы развлекать его подданных и ввести достаточное количество sacrum искусства в profanum их повседневной жизни.
– Илона? – спросил Риттер, понижая голос. – Уже появилась?
Куффельберг кивнул.
– Ох, да-да. Появилась.
После чего снова возвел очи горе и, прикрыв глаза, продекламировал с чувством:
– Кожа белее снегов, что на полночи
Слепяще искрятся под звездным сиянием,
И как бриллианты блестят ее очи —
Се милой моей таково обаяние.
– Такая кожа, полагаю, должна бы отливать синевой, – пошутил я, но Куффельберг поглядел на меня с укоризной.
– Сейчас сами все увидите, – сказал. – Клянусь, сердце ваше забьется сильнее. Оно так у всех здесь стучит…
Поэт выхлебал пиво до дна, в очередной раз вздохнул.
– Есть у вас немного времени? – спросил. – Может, захотите взглянуть на представление, которое мы готовим? Это рыцарский роман, – добавил. – И верите ли, нет ли, но случилось сие без вмешательства епископской канцелярии.
– Да неужели? Видно, по недосмотру, – пошутил я. – Но с радостью взгляну на вашу работу, Хайнц. – Я допил пиво и со стуком отставил кружку на стол. – Блевать охота от такой мочи.
Мы вышли на улицу, где молодой дворянчик уже с заметным усилием лупил неподвижное, бурое и покрытое грязью тело, лежавшее в луже. Старый пьяница не шевелился, а вокруг собралась толпа зевак.
– Хватит, – сказал я, проходя мимо. – Свое он уже получил.
Дворянчик на миг прервался и замер с занесенным над головой хлыстом. Были у него красные щеки и округлое, перекошенное теперь гримасой ярости личико. Светлые редкие волосики приклеились ко вспотевшему лбу.
– А вам что за дело? – рявкнул дворянчик. – Ступайте своей дорогой, если сами не хотите получить…
– Следите за словами, вы ведь говорите с функционером Святого Официума, человече, – сценическим шепотом произнес Риттер, а дворянчик судорожно сглотнул. Зеваки принялись быстренько расходиться.
– Наверное, вы правы, – миролюбиво произнес дворянчик, подумав. – Но смотрите, как он измазал мой плащ, – добавил юноша обвиняющим тоном.
Он еще раз рассек хлыстом воздух, словно показывая, что дело вовсе не в том, с кем разговаривает, после чего повернулся к своему слуге.
– Возвращаемся домой, – приказал. – Не могу я показаться госпоже Гизелле в таком состоянии.
И ушел, напряженный, будто струна, похлопывая хлыстом по голенищу сапога. Даже не взглянул больше в нашу сторону.
– По крайней мере, мы сделали добрый поступок, спасши жизнь человека, – сказал Риттер, когда мы свернули на улицу, ведшую к месту, где его труппа проводила репетиции.
– Сделали? – пробормотал я. – Ну, будь по-вашему… Проблема, однако, не в жизни того пьяницы, господин Риттер. Я просто не люблю бессмысленной жестокости. Насилие должно быть словно острый меч, направленный в четко выбранное место. Только тогда его нужно использовать. Господь наш покарал тех, кто прибил Его к Распятию, и тех, кто издевался над Его мукой, но не думаю, что разгневался бы, коли б измазали Его плащ.
– Не всякий найдет в себе смиренность и терпение Христа, – ответил поэт.
– Святая правда, – признал я.
* * *
Сцена, на которой театр Риттера проводил репетиции, располагалась в огромном деревянном сарае, обнесенном кривой оградой из подгнивших досок. У входа на страже стоял один из актеров, поскольку театральные труппы тщательно охраняли свои секреты (или, по крайней мере, делали вид, что охраняют). Голова актера была увенчана рыжим париком, лицо – приклеенной искусственной раздвоенной бородкой. В руках он держал большой обоюдоострый топор. Увидев нас, он махнул им в воздухе, а по легкости, с которой это сделал, я понял, что топор, должно быть, деревянный, хотя и покрашен для обмана зрителей серебряной краской.
– Хайнц! – закричал актер. – Давай, мужик, все тебя ждут!
– Андреас Куффельберг, – представил его Риттер с усмешкой. – В приземленном мире – блудный сын уважаемой купеческой семьи, но в универсуме великого искусства – Танкред Рыжий, кровожадный вождь варваров.
– Хррраггхх! – завыл актер, вознося очи горе? и потрясая топором.
– Заклятый сей топор ведьмачьим даром
Я получил из рук одной старухи,
И в острие его сокрыты чары,
Чтоб пережить все воинские вьюги, – произнес хриплым басом.
Я поаплодировал, а он просиял и поклонился.
– Мастер Мордимер Маддердин – из Святого Официума, – пояснил ему Риттер, я же заметил, что он ожидает реакции товарища с чуть иронической и шаловливой усмешкой.
Однако ж Куффельберг нисколько не испугался его слов:
– Страшитесь, чаровницы, мрачных инквизиторов,
Блеск их креста глаза вам ослепит.
Страшитесь, ведьмы, страстных слов молитвенных
И пламени, что смерть вам осветит, – произнес он.
Я скривился:
– Насколько помню, эта пьеса запрещена к игре. И если судить по рифмам, искусство лишь выиграло от введения цензуры.
Куффельберг рыкнул смехом. Я отметил, что зубы у него здоровые и белые – редко встречающаяся в наши времена особенность.
– Я – всего лишь актер, или, как говорят, комедиант, – сказал он с притворной смиренностью. – И мне тяжело оценить великое искусство. Как и любое искусство вообще. Хотя то, что написал ты, Хайнц, мне нравится. Аааагррррх! – зарычал он снова, обнажая зубы. – Я – Танкред Рыжий, убийца девиц и страх епископов!
– Наоборот, – пробормотал Риттер холодным тоном.
– Ну да, – признался актер миг спустя. – Я погибаю в последнем действии, – пояснил он мне, – но до того там много веселого. Надеюсь, что вы не вырежете слишком многое, а то было бы жаль.
– Я здесь совершенно частным образом, – сказал я, но знал, что он мне не поверит.
Признаюсь, что мой интерес к искусству слова родился исключительно случайно. Конечно, в Академии Инквизиториума мы изучали некоторые современные и древние пьесы, а наши учителя объясняли, как в невинных на первый взгляд текстах отыскивать богохульную ересь. И вы бы удивились, милые мои, узнав, как много может вычитать между строк опытный инквизитор. Но знакомство с современной литературой, со всеми этими драмами, комедиями, поэмами, шутками и гротесками я свел благодаря печатному мастеру Мактоберту. Некогда я сумел очистить его доброе имя от ложных обвинений, выдвинутых завистниками (да-да, встречаются людишки, которые полагают, будто пламя Инквизиции может служить низким целям), – а благодарный печатник в ответ одаривал меня с тех пор издаваемыми им книгами. Их накопилась уже немалая стопка в моей комнате, но чтение доставляло мне в свободные минутки много приятного.
Я, понятное дело, был далек от мысли, что являюсь знатоком художественной моды, но со смирением признаю, что имел некоторое представление о том, какие звезды сияют на небосводе высокого искусства ярче всего. И конечно, вовсе не Хез, несмотря на свою величину, был городом, где творцы оставались желанными гостями. Аквизгран – имперская столица – превосходил нас в этом на голову: может, оттого, что Светлейший Государь и его свита прикрывали глаза на поэтические вольности и на выходки драматургов и художников. А в Хезе, под твердой рукою Его Преосвященства, со свободой творцов было не столь просто. Епископ Герсард полагал, что паяцев, жонглеров и воздушных акробатов вполне хватит, чтобы развлекать его подданных и ввести достаточное количество sacrum искусства в profanum их повседневной жизни.
– Илона? – спросил Риттер, понижая голос. – Уже появилась?
Куффельберг кивнул.
– Ох, да-да. Появилась.
После чего снова возвел очи горе и, прикрыв глаза, продекламировал с чувством:
– Кожа белее снегов, что на полночи
Слепяще искрятся под звездным сиянием,
И как бриллианты блестят ее очи —
Се милой моей таково обаяние.
– Такая кожа, полагаю, должна бы отливать синевой, – пошутил я, но Куффельберг поглядел на меня с укоризной.
– Сейчас сами все увидите, – сказал. – Клянусь, сердце ваше забьется сильнее. Оно так у всех здесь стучит…