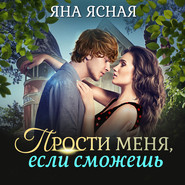По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Новая история колобка, или Как я добегалась
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из детской я выходила крадучись, ступая мягко и осторожно.
Чтобы не разбудить паршивцев.
А ночью я проснулась, как от удара. Подорвалась с кровати, успев мельком заметить время на часах – три ночи. Еще непроснувшееся тело запнулось о ковер, споткнулось, а я, до краев наполненная ужасом, даже не заметила болезненного удара коленями о пол, вскочила и снова рванулась. Из спальни – в общую комнату, скорее, скорей, спотыкаясь и задевая неуклюжим телом мебель и дверные косяки, без причин, без оснований, просто зная – беда!
Адка спала. Тихо. Мирно.
Не было беды.
Вот, видишь, уймись, приблажная, всё в порядке! А что руки трясутся и внутренности обливает ледяной жутью – ерунда, скоро пройдёт.
Спит. Просто спит. Всё хорошо.
Я осторожно качнула ее за плечо… Ноль реакций.
Устала. Не надо ее будить. Весь день с мелкими – это вам не фунт изюма. Грех мешать человеку после такого спать.
Я потрясла узкое девичье плечико чуть сильней. Нет реакции.
Рот заполнила вязкая кислая слюна, в животе мерзко затянуло.
– Ада, Ада! – расслышала я со стороны свой шепот, сначала осторожный, а потом напористый. – Ад, проснись!
Её рука безвольно соскользнула с дивана, костяшки пальцев стукнули об пол.
А дальше я растворилась. Набат, который удалось было задавить, снова грянул по моим нервам. Но мне уже не было до него дела. Мир стал прост и понятен, и развернулся во времени и пространстве, а я была в нем стрелой, летящей к цели. По идеальной прямой, кратчайшим путем. В этом мире мне очевидно было, что следует делать. Даже странно, что я потратила столько драгоценных мгновений на какие-то бессмысленные глупости, вроде сомнений и паники.
Я, рыдая в телефон: “Я просто проходила мимо и случайно заметила, что с ней что-то не так! Скорее, скорее, она умирает!” – вовсе не хотела рыдать. Я просто старалась привлечь к себе как можно больше профессионального внимания. Мне было необходимо, чтобы на том конце связи мне поверили. За нас испугались. И щедро делилась в трубку своей паникой.
А потом я перемещалась по квартире рывками: документы, одежда, белье, телефон. Адкина сумка.
В мою – телефон, зарядное, кошелек. Заначку с неприкосновенным запасом. Всю – не жмись, Ленка, ты их на черный день и откладывала. Верхняя одежда, обувь – грудой у двери.
И паники больше не было. Была хищная злоба, готовность рвать на куски, зубами выгрызть у судьбы Адкину жизнь. Звериное, первобытное, страшное поднялось к поверхности со дна моей души, и оказалось, что там, моей в душе, его было на удивление много. Я не сопротивлялась этому древнему. Зачем? Если кто-то встанет сегодня между мной и целью… что ж, это его выбор.
Я делала все быстро, собранно и, только стучась к соседке снизу, поняла, что стою перед ее дверью в одном тапке. Отметила это с полным равнодушием и продолжила стучать. Звонок у нее второй год не работал, а телефон эта чудесная старушка, сидевшая с моими мелкими с тех пор, как Адка поступила на первый курс, на ночь благоразумно отключила. Но ничего. Я не гордая.
В приоткрытой двери наконец появилось заспанное лицо пожилой женщины, и я зачастила скороговоркой:
– С Адкой беда, я с ней в больницу, переночуйте у нас, умоляю, они уже спят, просто переночуйте у нас на всякий случай!
И она отозвалась заторможенно:
– Хорошо, сейчас я приду…
– Да, да… я сейчас сбегаю вниз, скорую встречу, а вы да, собирайтесь, конечно…
– Да, конечно, милая… – И взгляд, настороженно опустившийся по мне от макушки до ног. – Леночка! Вы бы обулись…
– Да, я… я сейчас, да.
Вверх по лестнице, домой – проверить, есть ли у Адки пульс, отметить, что лицо ее стало вроде бы бледнее – веснушки проступили еще отчетливее.
Вниз, большими скачками, не приехала ли скорая?
Да, вот она – белая карета с характерной маркировкой, и ребята в синих форменных куртках поднялись за мной.
Они задавали прямо на ходу вопросы, и я отвечала, попутно понимая, что грош цена моим ответам – были ли травмы? Имеются ли хронические или наследственные заболевания? Она на что-то жаловалась в последнее время? Употребляет ли больная какие-либо препараты, иные вещества?
И я могла ответить разве что на половину, да и то без уверенности, потому что понятия не имела о ее наследственности, да и с жалобами – Адка не жалуется! И только на последний вопрос сорвалась, агрессивно окрысившись – но тут же взяла себя в руки и извинилась.
Буднично и деловито у Адки проверили пульс и сунули под нос ватку. По комнате поплыл резкий запах нашатыря. Нет эффекта.
У меня в висках стучало. Я сосредоточенно, безотрывно следила за крепкими широкими руками врача, проводившего осмотр. Зрачки, давление, ЭКГ…
Щелкнул замками, раскрываясь, чемодан с медикаментами. Серебристая игла проткнула кожу и вошла в вену на сгибе локтя.
Замершие, зависшие в воздухе мгновения, когда человек в синей куртке с нашивкой “Скорая помощь” ничего не делает. Он ждет, сжав хрупкое, бледное запястье.
И дрогнувшие ресницы – символом возвращения.
Снова расспросы – и дивная новость! Она, оказывается, вчера упала и ударилась головой. Да, головные боли были, но несущественные, и она не обратила внимания. Нет, голова не кружилась – ну… может один раз, утром, но это же у всех бывает! Нет, не тошнило. Да, точно не тошнило. Да правда не тошнило!
Мне хочется взять лопату и добить дуру, чтобы не смела больше молчать. Не смела так пугать. Либо сползти на пол и рыдать, уткнувшись в колени и накрыв голову руками.
Я ее сожру. Начну с ног.
– Сейчас как себя чувствуете?
Адка мнется, и я вижу, что она мучительно хочет соврать, но под моим взглядом не решается.
– Ну… Мутит… чуть-чуть. И слабость…
– Голова болит, кружится?
Моя балда кривится, мнется, но сознается, что да. И болит, и кружится… Слегка. Немножко. Уже проходит!
Желание дать ей по ушибленной башке лопатой становится непереносимым.
– Так, понятно. Мы ее забираем. Соберите вещи и документы. Есть кому поехать с ней?
– Да, конечно!
Адка пытается вякнуть что-то против, но затыкается на полуслове, поймав мою многообещающую улыбку, и покорно натягивает на себя одежду. Её слегка пошатывает, и врач сердобольно придерживает мое долговязое чадушко за плечо, а я…
А мне так ее жалко в этот момент, что я даю слабину и отменяю данное самой себе обещание, сожрать идиотку с костями, как только ей станет лучше.
Черт с тобой, живи! Не буду я от тебя отгрызать по кусочку за это твое молчание, за пренебрежение к самому ценному что у тебя есть – к себе… Что с вами, недолюбленными, поделаешь.