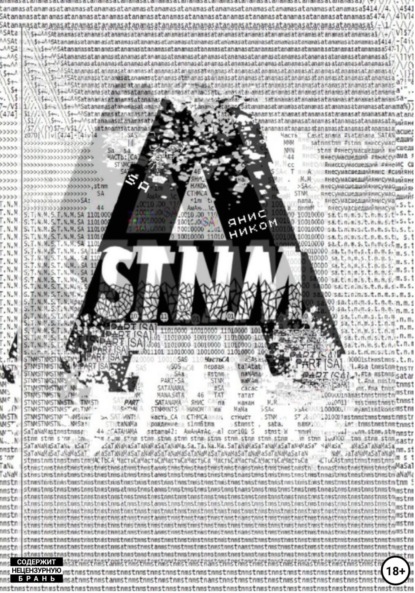По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
S.T.N.M. часть «Sa»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ублюдки! У вас есть двадцать минут, чтобы закончить всё на этом участке!
Около тридцати, как на подбор мускулистых, но потных и в пыли, мужчин копали траншеи под палящим солнцем. Для чего, кого и зачем – никому не было известно. Ни нам, ни тем, кто следит за нами. Порой я задумывался о том, что мы копаем землю для того, чтобы копать. Это как ад, такой же бессмысленный и беспощадный. Под сжирающим эпителий солнцем дни длились неделями, а недели оставляли на нашей шелушащейся и высохшей коже морщины и ожоги.
Я поднял голову и смахнул пот со лба. Она – стройная, обтянутая в кожаные штаны и в корсете, стояла над нами напротив солнца и орала. Наш Комендант.
Да, так проходят наши будни. Порой, когда мы были особо непослушны, или она была не в духе – брала хлыст и била нас. Свист и щелчок: она умела обращаться с хлыстом и это нас возбуждало. Обычно данный ритуал стабильно повторялся раз в месяц, чисто по женской физиологической причине. Но даже тогда я замечал, что получали все, кроме меня.
На самом деле «Комендантом» её никто не называл. Все остальные звали её сукой, стервой, кобылой, тварью… Я же всегда молчал в такие моменты, потому как для меня не было ничего прекрасней, чем она. Она, стоящая передо мной и орущая на них, вдохновляла меня. Когда я копал, я всегда посматривал на неё. Я думаю, она тоже смотрела на меня, но каждый раз, когда наши глаза встречались, она переводила взгляд на других и повышала голос. Всегда.
Иногда мне казалось, что она боится меня. И это неудивительно: из всего этого скота я был самым главным чудовищем, самым свирепым и безжалостным. Если бы в первые дни я её не принял, пожалуй, она не протянула бы здесь и пяти минут заката.
Она столь сильная духом по глупости уверовала в свои силы, даже в свою смену убирала надзирателей с вышек. Этим, конечно, сыскала уважение. Всяко лучше, чем оптика в спины, от которой волосы дыбом.
Она не боялась оставаться с нами наедине, хотя мы – отребье, могли сделать с ней всё, что угодно. В нас давно бурлила чисто мужская страсть, которую невозможно было снять никаким душевым уединением с порно-журнальчиками, никакие цепь с кандалами не способны были сдержать эту бурю. Эта страсть была настолько крепка, что мы привыкли жить только с этим. Изо дня в день с одним лишь голодом. Просыпались с ним, засыпали, и даже во сне он преследовал нас. Но никто, при всей своей ненависти, даже не думал что-либо сделать с комендантом. Она была под моей защитой, занята мной. Я же только об этом и думал. Я представлял эту сцену много-много раз. Ведь она была очень, ррррр, очень аппетитной в свете этих раскалённых будней. Софитом моих мрачных дней. Отдушиной, лейтмотивом, кетгутом, сшивающим раны.
Её лицо… Совсем не грозное, а наоборот – игривое, так редко встречающееся среди местных надзирателей. Глаза, блестящие кошачьими искрами, длинные чёрные, как смоль, волосы, а улыбка… Я лишь однажды увидел её улыбку на долю секунды, когда случайно столкнулся с ней. Пожалуй, другой за такое хамство сидел бы в карцере, а я был вознаграждён улыбкой, которая перешла в крик, но с такой фальшивостью в голосе, что меня даже рассмешило. Меня и рассмешило – вы только представьте!
Я часто представлял, как аккуратно, будто боясь сломать фарфоровую вазу, придерживал её за подбородок, пока целовал, как лавирую своими губами-лодками по её шее, ключицам, лопаткам, плечам, и прижимаю к себе. Иной раз представлял, как хватаю её за волосы, натягивая их тетивой, сжимаю её шею до синяков и опускаю вниз, продолжая душить. Мне было странно присутствие того, кто нежно её любил, но его образы нравились мне больше. Я даже не сразу заметил, что со временем в фантазиях с ней Дикий Я мелькал всё реже.
Тело… Мясо. Для нас, голодных и диких, если ты не думал о теле, как о мясе – значит, ты слабел. Мои фантазии становились невинными, всё более нежными и человечными. Когда люди говорят, что мужчина смотрит на женщину как на кусок мяса, они даже не представляют, насколько они далеки. Вот мы – да. Мы – лютые каннибалы, готовые сожрать человеческую плоть. Сначала совокупиться, а после – сожрать. Некоторые из нас даже не прочь были сделать это одновременно.
Время шло и, как известно, если дрессировщик, запуская животных, показывает свою слабину, то звери перестают слушаться. Это происходило постепенно. Твари вокруг меня начали огрызаться в мелочах, замечать, что комендант расслабился. В ней не было былой твёрдости, уверенности в себе. Как, впрочем, и у меня – их лидера. Я знал причину, знал, что её страх ко мне пропал, а моё недоверие к ней стёрлось, и последняя преграда была снесена под корень. Разумно ли было засыпать рвы вокруг замка и открывать ворота, когда в ночи скрывались варвары?
Она всё чаще давала поблажки бригадам, в которых я находился. Всё чаще касалась меня, не как раньше, перед работой, механически обыскивая нас для проверки инородных предметов, а более легкомысленно. Остальных еле-еле касаясь, а меня, напротив, слишком долго и тщательно. Это сильно ослабило её и меня. Это сильно злило их. Запах влюблённости почуяли хищники, стервятники чужого счастья. Она бы не смогла стать монстром, поэтому я начинал становиться человеком. Меня стали посещать человеческие мысли, чувства, я даже стал мечтать и перестал ненавидеть.
Человек не может быть частью стаи, и остальные это понимали. Многие раньше меня почуяли запах человечинки в своих рядах. Любовь в подобных заведениях приводила только к смерти. Выпотрошенной смерти. В самом зените солнца это привело к судному дню.
Я, как ни странно, был не в курсе того, что назревает. Я даже не чувствовал предстоящую угрозу. Все мои инстинкты притупились, я был увлечён только мыслями о ней, и это вышло боком… Наверное стая почувствовала во мне предателя, слабака, и хоть это никак не сказывалось на нашем обычном общении, но как оказалось, план, который готовился месяцами, был у всех на клыках, миновав мои притуплённые зубы.
Это началось неожиданно, вмиг, как всегда и бывает. В один из особо жарких дней один парень перестал копать. Я знал его. Он был одним из самых молодых и мускулистых, дерзкий и обезумевший, вылитый я лет двадцать назад, прирождённый лидер, убийца, вожак. Комендант подала несколько проигнорированных приказов, перешла на крик, а потом и на яростные удары хлыстом о спину парня. Таких звучных щелчков я не слышал уже давно. Парень же, откинув лопату, будто не замечая ударов хлыста, повернулся к ней лицом и посмотрел в глаза. Хлыст уже не бил по спине, он попадал по лицу, шее, груди, оставляя рваные полоски несогласия на смуглом теле, пока звуки ударов и вовсе не затихли, как затихают аплодисменты тех, кто, как всегда не вовремя, тех, кого никто не поддержал.
И это был знак. Щёлк! Будто карточный домик всё посыпалось, один следом за другим кидали лопаты. Все морды были повёрнуты к Коменданту. Такой наглости от животных я не видел давно. Она орала, размахивая плетью, скорее от бессилия, чем от власти. Мы привыкли не чувствовать боязливые удары шрамами на коже, но эти удары оставляли раздражающий кислый запах в воздухе. Удары от страха мы терпеть не могли больше всего.
И вот остался я. Последний, кто держал лопату, держал жизнь Коменданта. Выбор был за мной. В момент я понял, что все ждут моего заключительного действия. Молчание разрывало пересохшие перепонки. Казалось, песок полностью подчинил и поглотил воздух, засоряя и вонзаясь своими острыми, сухими песчинками в мои лёгкие. Я всегда знал, что был лидером этого зверья. И даже став предателем, я оставался вожаком. Звери не могли сделать ничего без моего согласия. Пока был главарь, все ждали его подтверждения. Что ни говори, но эти сволочи были преданнее и вернее людей, они держались до конца. До последнего давали шанс, до последнего уважали. Вот только понять никогда не пытались.
Гады оскалились в мою сторону, Комендант посмотрела на меня. В этот момент я посмотрел на зверей. В их маленьких зрачках было пусто: ничего, кроме голода и злобы, которая копилась годами; и тупой преданности, смешанной с жаждой крови, насилия и плоти. Странная, тягучая и вяжущая рот смесь. Капли преданности потом сдерживали их обожжённые тела, как клей. Они словно псы, ожидающие команды «фас» от своего хозяина. Давно голодные собаки, готовые растерзать хозяина, если тот сейчас же их не накормит.
Я посмотрел на коменданта.
Это был единственный раз, когда она не сводила с меня взгляд. В её глазах застыла мокрая мольба и солёная любовь. Она понимала, что не успеет даже крикнуть, позвать на помощь, поэтому замереть в этот момент – было лучшим решением. Я заметил, как от назревающих слёз блестят на солнце её расширенные зрачки, обведённые серо-зелённым облаком. Её глаза… С ними определённо было что-то не так, даже сейчас в них не было страха, в них были извинение, ласка, надежда… Я бы повторил весь кровавый путь своей и чужой боли, лишь бы увидеть эту пару внеземных и сияющих.
Я должен, обязан был сделать выбор. Да или нет. Предать дружбу или любовь. Но я не знал, в каком из вариантов я предам себя.
Казалось, что себя я предам при любом раскладе.
Сейчас мир разделится на две половины, но это не будет значить, что я сделал тот или иной выбор. Просто в каждом из миров я сделал один из этих выборов и не более. И каждый мир имеет право на существование. Как песню можно сравнить с фильмом? В каком из них тебе жить?
В первом осколке мира я остался стоять с лопатой. У меня запотели руки, я сам вспотел, как боров после грохота ружья. Другими словами – как существо, которое не имеет потовых желез. От костей и до костей, не иначе. Впервые за многие годы я испытал страх, а значит – поражение. Я знал, чем это закончится, хоть мои инстинкты и притупились, но даже эти слабые отголоски былого могущества вопили о том, что будет. Я что есть силы сжал в мокрых руках лопату, да так, что деревянная рукоятка, которая так и норовила предательски выскользнуть, треснула, и продолжил копать. Грубое дерево, пропитанное потом череды поколений узников, вонзилось в мою ладонь, разорвав её до крови. С первыми каплями крови я почувствовал, как теряю стаю, каплей за каплей теряю самых близких, кто был у меня все эти долгие, бесконечно невыносимые годы. В воздухе, которым я дышал, пропало что-то единое. В один миг я стал чужим, или лучше сказать – изгнанным. Но зверьё, тяжело дыша и рыча, взялось за лопаты и продолжило копать со мной в унисон. Капли моей багровой крови стекали по древку лопаты и слезами опадали на горячий песок, в надежде остудить его. Это был последний день, когда я чувствовал, что мы команда, когда каждый мой удар о землю сопровождался эхом ударов других – последняя прощальная песня. Панихида из тяжёлых вдохов и боя металла с землёй в мою честь.
После работ обычный обход коменданта и традиционное пожатие рук рабочим. Дойдя до меня, она остановилась, протянув руку, замешкалась и обняла меня, а после недолгой паузы, поцеловала в сухие, потрескавшиеся губы. Она понимала, что это последний день, когда видит меня живым. Но ничего не могла с этим поделать. Карцер лишь отстрочит неизбежное, да и пусть я стал человеком, трусом я становиться не собирался. Только так она могла отблагодарить меня, вознаградить за то, что я пошёл на смерть ради неё. И ради этого поцелуя я стал предателем, о чём ни на миг не пожалел после. Ведь нём был смысл, вся гамма чувств, которую не способно прочувствовать животное. Именно в этот момент я окончательно стал человеком. Понял смысл человечества, уничтожив в себе всё, что могло напоминать моим товарищам о своём былом могуществе и, вернув в себя всё, что мы с ними так яро ненавидели и презирали все эти годы, то, что как я думал, никогда не примет мой организм. Не осталось и следа этих мучений от всепожирающего голода. Мы просто не понимали этого счастья!
В тот же вечер я был разорван голыми волосатыми, испещрёнными шрамами и ожогами, руками своих друзей. В клочья. Я даже не сопротивлялся, ведь это было бессмысленно, я потерял былую звериную силу, когда стал человеком. Так всегда и бывает с лидерами, которые пошли против своих фанатичных последователей. Так случается с теми, кто предаёт братьев по инстинктам. Разве им можно было объяснить, что это нечто большее, чем инстинкт? Они видели в этом только слабость, а не отвагу. Только глупость, а не любовь. Только предательство…
Во втором осколке мира в моих глазах сверкнули слёзы, впервые за всю жизнь – остатки надежды, но я с силой воткнул лопату в землю у ног коменданта, как флаг. Это был конец. Боевой клич. Моя стая вырвалась на волю, я снял её с поводка. Голодные псы ада набросились на хрупкую девушку и всеми своими мозолистыми руками душили её, разрывали в клочья плоть и одежду на ней. Я стоял в стороне и наблюдал. Внутри себя я выл от боли, руки тряслись, но я не сделал ни шага в сторону, ни на миг не отвернулся, не моргнул. Я чувствовал, что обретал пустоту внутри себя, убивал последнее человеческое зерно, которое так усердно старалось возродиться во мне, и обрёл полноценную звериную сущность. Я чувствовал, как мои мускулы наполняются силой, тьмой, агрессией, как мои инстинкты возрождаются, как жестокость покоряет разум. Я поднял голову вверх, выпячивая грудную клетку к солнцу. Теперь я снова непоколебимый полноправный лидер! Да! Я, и только я! Как никогда силён! Рррррааа!
В конце стая расступилась, оставив мне всё ещё тёплое, ободранное тело. Теперь я царь зверей и я должен принять этот дар. Это последний шаг к абсолютному братству. Я овладеваю еле живым Комендантом, но ничего не чувствую. Ничего из той гаммы чувств, что испытывал прежде даже при взгляде на неё. Я лишь зверь, который ублажает свой инстинкт над жалким телом. Просто удовлетворяюсь мясом, просто пытаюсь утолить ненасытный голод. Я смотрю в её лицо, по которому текут слёзы. Она вся в песке и слёзы оставляют на коже очищенные от него дорожки. В конце я вонзаю руку в её грудную клетку и вырываю ещё колышущееся сердце. Я поедаю его на глазах стаи и слышу вой, рычание, аплодисменты. Мне это нравится, это их дар уважения. Теперь я их господин, теперь они сделают всё, что я прикажу. У меня есть армия самых верных и самых беспощадных зеков на всём белом свете. После, когда внутренние органы были розданы сильнейшим, мы помещаем труп в яму, которую копали последние месяцы под руководством коменданта. Последний раз её затуманенные глаза видят яркое светлое небо, а после погружаются в песок. Странно, почему закапывать намного легче, чем раскапывать?
Выбор сделан. И неважно, какой вам больше по душе. Даже не важно, какой выбор сделали бы вы. Знайте, что ваш выбор всегда будет сделан в обе стороны. И если в этом мире вы поступили так, будьте уверены, что в ином мире вы поступили совсем иначе. Каждый наш выбор создаёт множество миров, от нас лишь зависит, в каком из миров мы готовы жить. Поэтому подкидывая монетку, загадывайте ребро – не прогадаете.
||||
|||| = ??
?
Неожиданно ты вздрагиваешь, и не от того, что кто-то «тычет», а будто оступившись на лестничном пролёте-марше, и на этот раз просыпаешься, теперь по-настоящему.!
Человек проснулся, проснулось и твоё имя. Тебя зовут Янис. Точнее тебе так кажется. Янис будто родился, очнулся от тяжёлого, болотного сна, из которого очень трудно выбраться, словно это вовсе не сон, а жизнь. Чужая, липкая, лихая на повороты жизнь. Объятия, которые почти закончились удушением. Это определённо не то, что ты хотел увидеть.
Уснул – разочаровался, проснулся – опять разочаровался. Что за жизнь-то? Вялотекущий сюжет! Твой разум был таким усталым и потерянным, каким обычно бывает тело после изнурённой пробежки и тут прогремел
так вспыхнул вместе со взрывом ряд послеобразов «мушки/гусеницы/чёрточки/паутинки/» – плавающие помутнения, напоминающие по своим очертаниям странных гномиков-смайликов.
Ты проснулся ровно за минуту до взрыва будильника. Когда он «прозрывел» – ты распахнул глаза и именно тогда от яркого света почти ослеп, оказавшись в хороводе «гномиков».
Грёбанный динь-дон. Первый. Второй. Третий раз.
Приходилось ли тебе замечать, что когда звонит будильник ты, лёжа в кровати, находишься на перекрёстке путей, троп и дорог и сейчас решается судьба твоего дня? Твоей жизни, если захочешь. Здесь и сейчас. Спросонья. На этой самой подушке, под этим самым одеялом?
Четвёртый. Пятый. Шестой раз.
Стоит выключить будильник и выбор будет сделан. Либо хорошо, либо плохо. Либо лимбо.
Седьмой. Восьмой. Девятый.
Рулетка. Каждодневная лотерея. Казино вытянутой руки.
Десятый. Одиннадцатый.
Стоп. Офф. Выбор сделан. Приз в студию!
Янис довольно лихо подорвался с кровати, вспомнив, что время не идёт в ногу с его мироощущением, оно вечно норовит обмануть его и обогнать, чтобы тот опоздал, поэтому стоит играть на опережение. Хоть иногда.
Не сказать, что дела были какие-то конкретные, скорее экзистенциально-абстрактные, свойственные любому существу, осознающему свою собственную смертность. Обычная суета человеческая, лишь бы делать что-то, ведь время идёт – об этом ему напомнил мобильный телефон.
Надо было идти в метро. В эту пасть бездны. Так что утро определённо не задалось. Впрочем, как обычно. На прощание он окинул взглядом свою комнату, густонаселённую всяческими вещичками, которые не менее плотно были пропитаны памятными фрагментами. Он осмотрел своё тело, обделённое странными посланиями, мускулами и жирами. Костлявое тело. Почему-то ему казалось, что он видит свою комнату в последний раз. Он решил для себя, что в глубину проникать пока что рано; все норовят поглубже, в суть, так и не исследовав всю обширность плоскости. Но нет, не в этот будильник. Не в этот дзынь-дзынь и дин-дон, твою мать.
Кто-то считал метро адом, он же считал метро чистилищем, царством мёртвых, где даже живые люди утрачивают украшения души. При входе сдают всю бижутерию в комнату забытых вещей.
Около тридцати, как на подбор мускулистых, но потных и в пыли, мужчин копали траншеи под палящим солнцем. Для чего, кого и зачем – никому не было известно. Ни нам, ни тем, кто следит за нами. Порой я задумывался о том, что мы копаем землю для того, чтобы копать. Это как ад, такой же бессмысленный и беспощадный. Под сжирающим эпителий солнцем дни длились неделями, а недели оставляли на нашей шелушащейся и высохшей коже морщины и ожоги.
Я поднял голову и смахнул пот со лба. Она – стройная, обтянутая в кожаные штаны и в корсете, стояла над нами напротив солнца и орала. Наш Комендант.
Да, так проходят наши будни. Порой, когда мы были особо непослушны, или она была не в духе – брала хлыст и била нас. Свист и щелчок: она умела обращаться с хлыстом и это нас возбуждало. Обычно данный ритуал стабильно повторялся раз в месяц, чисто по женской физиологической причине. Но даже тогда я замечал, что получали все, кроме меня.
На самом деле «Комендантом» её никто не называл. Все остальные звали её сукой, стервой, кобылой, тварью… Я же всегда молчал в такие моменты, потому как для меня не было ничего прекрасней, чем она. Она, стоящая передо мной и орущая на них, вдохновляла меня. Когда я копал, я всегда посматривал на неё. Я думаю, она тоже смотрела на меня, но каждый раз, когда наши глаза встречались, она переводила взгляд на других и повышала голос. Всегда.
Иногда мне казалось, что она боится меня. И это неудивительно: из всего этого скота я был самым главным чудовищем, самым свирепым и безжалостным. Если бы в первые дни я её не принял, пожалуй, она не протянула бы здесь и пяти минут заката.
Она столь сильная духом по глупости уверовала в свои силы, даже в свою смену убирала надзирателей с вышек. Этим, конечно, сыскала уважение. Всяко лучше, чем оптика в спины, от которой волосы дыбом.
Она не боялась оставаться с нами наедине, хотя мы – отребье, могли сделать с ней всё, что угодно. В нас давно бурлила чисто мужская страсть, которую невозможно было снять никаким душевым уединением с порно-журнальчиками, никакие цепь с кандалами не способны были сдержать эту бурю. Эта страсть была настолько крепка, что мы привыкли жить только с этим. Изо дня в день с одним лишь голодом. Просыпались с ним, засыпали, и даже во сне он преследовал нас. Но никто, при всей своей ненависти, даже не думал что-либо сделать с комендантом. Она была под моей защитой, занята мной. Я же только об этом и думал. Я представлял эту сцену много-много раз. Ведь она была очень, ррррр, очень аппетитной в свете этих раскалённых будней. Софитом моих мрачных дней. Отдушиной, лейтмотивом, кетгутом, сшивающим раны.
Её лицо… Совсем не грозное, а наоборот – игривое, так редко встречающееся среди местных надзирателей. Глаза, блестящие кошачьими искрами, длинные чёрные, как смоль, волосы, а улыбка… Я лишь однажды увидел её улыбку на долю секунды, когда случайно столкнулся с ней. Пожалуй, другой за такое хамство сидел бы в карцере, а я был вознаграждён улыбкой, которая перешла в крик, но с такой фальшивостью в голосе, что меня даже рассмешило. Меня и рассмешило – вы только представьте!
Я часто представлял, как аккуратно, будто боясь сломать фарфоровую вазу, придерживал её за подбородок, пока целовал, как лавирую своими губами-лодками по её шее, ключицам, лопаткам, плечам, и прижимаю к себе. Иной раз представлял, как хватаю её за волосы, натягивая их тетивой, сжимаю её шею до синяков и опускаю вниз, продолжая душить. Мне было странно присутствие того, кто нежно её любил, но его образы нравились мне больше. Я даже не сразу заметил, что со временем в фантазиях с ней Дикий Я мелькал всё реже.
Тело… Мясо. Для нас, голодных и диких, если ты не думал о теле, как о мясе – значит, ты слабел. Мои фантазии становились невинными, всё более нежными и человечными. Когда люди говорят, что мужчина смотрит на женщину как на кусок мяса, они даже не представляют, насколько они далеки. Вот мы – да. Мы – лютые каннибалы, готовые сожрать человеческую плоть. Сначала совокупиться, а после – сожрать. Некоторые из нас даже не прочь были сделать это одновременно.
Время шло и, как известно, если дрессировщик, запуская животных, показывает свою слабину, то звери перестают слушаться. Это происходило постепенно. Твари вокруг меня начали огрызаться в мелочах, замечать, что комендант расслабился. В ней не было былой твёрдости, уверенности в себе. Как, впрочем, и у меня – их лидера. Я знал причину, знал, что её страх ко мне пропал, а моё недоверие к ней стёрлось, и последняя преграда была снесена под корень. Разумно ли было засыпать рвы вокруг замка и открывать ворота, когда в ночи скрывались варвары?
Она всё чаще давала поблажки бригадам, в которых я находился. Всё чаще касалась меня, не как раньше, перед работой, механически обыскивая нас для проверки инородных предметов, а более легкомысленно. Остальных еле-еле касаясь, а меня, напротив, слишком долго и тщательно. Это сильно ослабило её и меня. Это сильно злило их. Запах влюблённости почуяли хищники, стервятники чужого счастья. Она бы не смогла стать монстром, поэтому я начинал становиться человеком. Меня стали посещать человеческие мысли, чувства, я даже стал мечтать и перестал ненавидеть.
Человек не может быть частью стаи, и остальные это понимали. Многие раньше меня почуяли запах человечинки в своих рядах. Любовь в подобных заведениях приводила только к смерти. Выпотрошенной смерти. В самом зените солнца это привело к судному дню.
Я, как ни странно, был не в курсе того, что назревает. Я даже не чувствовал предстоящую угрозу. Все мои инстинкты притупились, я был увлечён только мыслями о ней, и это вышло боком… Наверное стая почувствовала во мне предателя, слабака, и хоть это никак не сказывалось на нашем обычном общении, но как оказалось, план, который готовился месяцами, был у всех на клыках, миновав мои притуплённые зубы.
Это началось неожиданно, вмиг, как всегда и бывает. В один из особо жарких дней один парень перестал копать. Я знал его. Он был одним из самых молодых и мускулистых, дерзкий и обезумевший, вылитый я лет двадцать назад, прирождённый лидер, убийца, вожак. Комендант подала несколько проигнорированных приказов, перешла на крик, а потом и на яростные удары хлыстом о спину парня. Таких звучных щелчков я не слышал уже давно. Парень же, откинув лопату, будто не замечая ударов хлыста, повернулся к ней лицом и посмотрел в глаза. Хлыст уже не бил по спине, он попадал по лицу, шее, груди, оставляя рваные полоски несогласия на смуглом теле, пока звуки ударов и вовсе не затихли, как затихают аплодисменты тех, кто, как всегда не вовремя, тех, кого никто не поддержал.
И это был знак. Щёлк! Будто карточный домик всё посыпалось, один следом за другим кидали лопаты. Все морды были повёрнуты к Коменданту. Такой наглости от животных я не видел давно. Она орала, размахивая плетью, скорее от бессилия, чем от власти. Мы привыкли не чувствовать боязливые удары шрамами на коже, но эти удары оставляли раздражающий кислый запах в воздухе. Удары от страха мы терпеть не могли больше всего.
И вот остался я. Последний, кто держал лопату, держал жизнь Коменданта. Выбор был за мной. В момент я понял, что все ждут моего заключительного действия. Молчание разрывало пересохшие перепонки. Казалось, песок полностью подчинил и поглотил воздух, засоряя и вонзаясь своими острыми, сухими песчинками в мои лёгкие. Я всегда знал, что был лидером этого зверья. И даже став предателем, я оставался вожаком. Звери не могли сделать ничего без моего согласия. Пока был главарь, все ждали его подтверждения. Что ни говори, но эти сволочи были преданнее и вернее людей, они держались до конца. До последнего давали шанс, до последнего уважали. Вот только понять никогда не пытались.
Гады оскалились в мою сторону, Комендант посмотрела на меня. В этот момент я посмотрел на зверей. В их маленьких зрачках было пусто: ничего, кроме голода и злобы, которая копилась годами; и тупой преданности, смешанной с жаждой крови, насилия и плоти. Странная, тягучая и вяжущая рот смесь. Капли преданности потом сдерживали их обожжённые тела, как клей. Они словно псы, ожидающие команды «фас» от своего хозяина. Давно голодные собаки, готовые растерзать хозяина, если тот сейчас же их не накормит.
Я посмотрел на коменданта.
Это был единственный раз, когда она не сводила с меня взгляд. В её глазах застыла мокрая мольба и солёная любовь. Она понимала, что не успеет даже крикнуть, позвать на помощь, поэтому замереть в этот момент – было лучшим решением. Я заметил, как от назревающих слёз блестят на солнце её расширенные зрачки, обведённые серо-зелённым облаком. Её глаза… С ними определённо было что-то не так, даже сейчас в них не было страха, в них были извинение, ласка, надежда… Я бы повторил весь кровавый путь своей и чужой боли, лишь бы увидеть эту пару внеземных и сияющих.
Я должен, обязан был сделать выбор. Да или нет. Предать дружбу или любовь. Но я не знал, в каком из вариантов я предам себя.
Казалось, что себя я предам при любом раскладе.
Сейчас мир разделится на две половины, но это не будет значить, что я сделал тот или иной выбор. Просто в каждом из миров я сделал один из этих выборов и не более. И каждый мир имеет право на существование. Как песню можно сравнить с фильмом? В каком из них тебе жить?
В первом осколке мира я остался стоять с лопатой. У меня запотели руки, я сам вспотел, как боров после грохота ружья. Другими словами – как существо, которое не имеет потовых желез. От костей и до костей, не иначе. Впервые за многие годы я испытал страх, а значит – поражение. Я знал, чем это закончится, хоть мои инстинкты и притупились, но даже эти слабые отголоски былого могущества вопили о том, что будет. Я что есть силы сжал в мокрых руках лопату, да так, что деревянная рукоятка, которая так и норовила предательски выскользнуть, треснула, и продолжил копать. Грубое дерево, пропитанное потом череды поколений узников, вонзилось в мою ладонь, разорвав её до крови. С первыми каплями крови я почувствовал, как теряю стаю, каплей за каплей теряю самых близких, кто был у меня все эти долгие, бесконечно невыносимые годы. В воздухе, которым я дышал, пропало что-то единое. В один миг я стал чужим, или лучше сказать – изгнанным. Но зверьё, тяжело дыша и рыча, взялось за лопаты и продолжило копать со мной в унисон. Капли моей багровой крови стекали по древку лопаты и слезами опадали на горячий песок, в надежде остудить его. Это был последний день, когда я чувствовал, что мы команда, когда каждый мой удар о землю сопровождался эхом ударов других – последняя прощальная песня. Панихида из тяжёлых вдохов и боя металла с землёй в мою честь.
После работ обычный обход коменданта и традиционное пожатие рук рабочим. Дойдя до меня, она остановилась, протянув руку, замешкалась и обняла меня, а после недолгой паузы, поцеловала в сухие, потрескавшиеся губы. Она понимала, что это последний день, когда видит меня живым. Но ничего не могла с этим поделать. Карцер лишь отстрочит неизбежное, да и пусть я стал человеком, трусом я становиться не собирался. Только так она могла отблагодарить меня, вознаградить за то, что я пошёл на смерть ради неё. И ради этого поцелуя я стал предателем, о чём ни на миг не пожалел после. Ведь нём был смысл, вся гамма чувств, которую не способно прочувствовать животное. Именно в этот момент я окончательно стал человеком. Понял смысл человечества, уничтожив в себе всё, что могло напоминать моим товарищам о своём былом могуществе и, вернув в себя всё, что мы с ними так яро ненавидели и презирали все эти годы, то, что как я думал, никогда не примет мой организм. Не осталось и следа этих мучений от всепожирающего голода. Мы просто не понимали этого счастья!
В тот же вечер я был разорван голыми волосатыми, испещрёнными шрамами и ожогами, руками своих друзей. В клочья. Я даже не сопротивлялся, ведь это было бессмысленно, я потерял былую звериную силу, когда стал человеком. Так всегда и бывает с лидерами, которые пошли против своих фанатичных последователей. Так случается с теми, кто предаёт братьев по инстинктам. Разве им можно было объяснить, что это нечто большее, чем инстинкт? Они видели в этом только слабость, а не отвагу. Только глупость, а не любовь. Только предательство…
Во втором осколке мира в моих глазах сверкнули слёзы, впервые за всю жизнь – остатки надежды, но я с силой воткнул лопату в землю у ног коменданта, как флаг. Это был конец. Боевой клич. Моя стая вырвалась на волю, я снял её с поводка. Голодные псы ада набросились на хрупкую девушку и всеми своими мозолистыми руками душили её, разрывали в клочья плоть и одежду на ней. Я стоял в стороне и наблюдал. Внутри себя я выл от боли, руки тряслись, но я не сделал ни шага в сторону, ни на миг не отвернулся, не моргнул. Я чувствовал, что обретал пустоту внутри себя, убивал последнее человеческое зерно, которое так усердно старалось возродиться во мне, и обрёл полноценную звериную сущность. Я чувствовал, как мои мускулы наполняются силой, тьмой, агрессией, как мои инстинкты возрождаются, как жестокость покоряет разум. Я поднял голову вверх, выпячивая грудную клетку к солнцу. Теперь я снова непоколебимый полноправный лидер! Да! Я, и только я! Как никогда силён! Рррррааа!
В конце стая расступилась, оставив мне всё ещё тёплое, ободранное тело. Теперь я царь зверей и я должен принять этот дар. Это последний шаг к абсолютному братству. Я овладеваю еле живым Комендантом, но ничего не чувствую. Ничего из той гаммы чувств, что испытывал прежде даже при взгляде на неё. Я лишь зверь, который ублажает свой инстинкт над жалким телом. Просто удовлетворяюсь мясом, просто пытаюсь утолить ненасытный голод. Я смотрю в её лицо, по которому текут слёзы. Она вся в песке и слёзы оставляют на коже очищенные от него дорожки. В конце я вонзаю руку в её грудную клетку и вырываю ещё колышущееся сердце. Я поедаю его на глазах стаи и слышу вой, рычание, аплодисменты. Мне это нравится, это их дар уважения. Теперь я их господин, теперь они сделают всё, что я прикажу. У меня есть армия самых верных и самых беспощадных зеков на всём белом свете. После, когда внутренние органы были розданы сильнейшим, мы помещаем труп в яму, которую копали последние месяцы под руководством коменданта. Последний раз её затуманенные глаза видят яркое светлое небо, а после погружаются в песок. Странно, почему закапывать намного легче, чем раскапывать?
Выбор сделан. И неважно, какой вам больше по душе. Даже не важно, какой выбор сделали бы вы. Знайте, что ваш выбор всегда будет сделан в обе стороны. И если в этом мире вы поступили так, будьте уверены, что в ином мире вы поступили совсем иначе. Каждый наш выбор создаёт множество миров, от нас лишь зависит, в каком из миров мы готовы жить. Поэтому подкидывая монетку, загадывайте ребро – не прогадаете.
||||
|||| = ??
?
Неожиданно ты вздрагиваешь, и не от того, что кто-то «тычет», а будто оступившись на лестничном пролёте-марше, и на этот раз просыпаешься, теперь по-настоящему.!
Человек проснулся, проснулось и твоё имя. Тебя зовут Янис. Точнее тебе так кажется. Янис будто родился, очнулся от тяжёлого, болотного сна, из которого очень трудно выбраться, словно это вовсе не сон, а жизнь. Чужая, липкая, лихая на повороты жизнь. Объятия, которые почти закончились удушением. Это определённо не то, что ты хотел увидеть.
Уснул – разочаровался, проснулся – опять разочаровался. Что за жизнь-то? Вялотекущий сюжет! Твой разум был таким усталым и потерянным, каким обычно бывает тело после изнурённой пробежки и тут прогремел
так вспыхнул вместе со взрывом ряд послеобразов «мушки/гусеницы/чёрточки/паутинки/» – плавающие помутнения, напоминающие по своим очертаниям странных гномиков-смайликов.
Ты проснулся ровно за минуту до взрыва будильника. Когда он «прозрывел» – ты распахнул глаза и именно тогда от яркого света почти ослеп, оказавшись в хороводе «гномиков».
Грёбанный динь-дон. Первый. Второй. Третий раз.
Приходилось ли тебе замечать, что когда звонит будильник ты, лёжа в кровати, находишься на перекрёстке путей, троп и дорог и сейчас решается судьба твоего дня? Твоей жизни, если захочешь. Здесь и сейчас. Спросонья. На этой самой подушке, под этим самым одеялом?
Четвёртый. Пятый. Шестой раз.
Стоит выключить будильник и выбор будет сделан. Либо хорошо, либо плохо. Либо лимбо.
Седьмой. Восьмой. Девятый.
Рулетка. Каждодневная лотерея. Казино вытянутой руки.
Десятый. Одиннадцатый.
Стоп. Офф. Выбор сделан. Приз в студию!
Янис довольно лихо подорвался с кровати, вспомнив, что время не идёт в ногу с его мироощущением, оно вечно норовит обмануть его и обогнать, чтобы тот опоздал, поэтому стоит играть на опережение. Хоть иногда.
Не сказать, что дела были какие-то конкретные, скорее экзистенциально-абстрактные, свойственные любому существу, осознающему свою собственную смертность. Обычная суета человеческая, лишь бы делать что-то, ведь время идёт – об этом ему напомнил мобильный телефон.
Надо было идти в метро. В эту пасть бездны. Так что утро определённо не задалось. Впрочем, как обычно. На прощание он окинул взглядом свою комнату, густонаселённую всяческими вещичками, которые не менее плотно были пропитаны памятными фрагментами. Он осмотрел своё тело, обделённое странными посланиями, мускулами и жирами. Костлявое тело. Почему-то ему казалось, что он видит свою комнату в последний раз. Он решил для себя, что в глубину проникать пока что рано; все норовят поглубже, в суть, так и не исследовав всю обширность плоскости. Но нет, не в этот будильник. Не в этот дзынь-дзынь и дин-дон, твою мать.
Кто-то считал метро адом, он же считал метро чистилищем, царством мёртвых, где даже живые люди утрачивают украшения души. При входе сдают всю бижутерию в комнату забытых вещей.