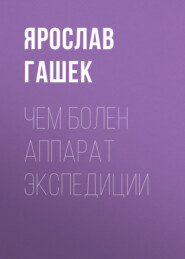По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Похождения бравого солдата Швейка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Мало еще только слышать, – продолжал свою проповедь фельдкурат. – В окружающем вас мраке, болваны, не снизойдет к вам сострадание Всевышнего, ибо и милосердие Божье имеет свои пределы. А ты, осел, там сзади, не смей ржать, а не то сгною тебя в карцере; и вы, внизу, не думайте, что вы в кабаке! Милосердие Божье бесконечно, но только для порядочных людей, а не для всякого отребья, не соблюдающего ни его законов, ни воинского устава. Вот что я хотел вам сказать. Молиться вы не умеете и думаете, что ходить в церковь – одна потеха, словно здесь театр или кинематограф какой. Я вам это из башки выбью, чтобы вы не воображали, будто я пришел сюда забавлять вас и увеселять. Рассажу вас, сукиных детей, по одиночкам, – вот что я сделаю. Только время с вами теряю, совершенно зря теряю. Если бы вместо меня был здесь сам фельдмаршал или сам архиепископ, все равно вы бы не исправились и не обратили души ваши к Господу. И все-таки когда-нибудь вы меня вспомните и скажете: «Добра он нам желал…»
Из рядов подштанников послышалось всхлипывание. Это рыдал Швейк.
Фельдкурат посмотрел вниз. Швейк тер глаза кулаком. Вокруг царило всеобщее ликование.
– Пусть каждый из вас берет пример с этого человека, – продолжал фельдкурат, указывая на Швейка. – Что он делает? Плачет. Не плачь, говорю тебе! Не плачь! Ты хочешь исправиться? Это тебе, голубчик, не так-то легко удастся. Сейчас плачешь, а вернешься в свою камеру и опять станешь таким же негодяем, как и раньше. Тебе еще много придется пораздумать о бесконечном милосердии Божьем, долго придется совершенствоваться, пока твоя грешная душа не выйдет наконец на тот путь истинный, по коему ей надлежит идти… Днесь на наших глазах заплакал один из вас, захотевший обратиться на путь истины, а что делаете вы, остальные? Ни черта. Вот, смотрите, один что-то жует, словно родители у него были жвачные животные, а другой в храме Божьем ищет вшей в своей рубашке. Не можете дома чесаться, что ли? Обязательно вам во время богослужения надо. Смотритель, вы совсем не следите за порядком! Ведь вы же все солдаты, а не какие-нибудь балбесы штатские, и вести себя должны, как полагается солдатам, хотя бы и в церкви. Займитесь, черт побери, исканием Бога, а вшей будете искать дома! На этом, хулиганье, я кончил и требую, чтобы во время обедни вы вели себя прилично, а не как прошлый раз, когда в задних рядах обменивали казенное белье на хлеб и лопали этот хлеб при возношении святых даров.
Фельдкурат сошел с кафедры и проследовал в ризницу, куда направился за ним и смотритель. Через минуту смотритель вышел, подошел прямо к Швейку, вытащил его из кучи двадцати подштанников и отвел в ризницу.
Фельдкурат сидел, развалясь, на столе и свертывал себе сигарету. Когда Швейк вошел, фельдкурат сказал:
– Ну, вот и вы. Я тут поразмыслил и считаю, что раскусил вас как следует. Понимаешь? Это первый случай, чтобы у меня в церкви кто-нибудь разревелся.
Он соскочил со стола и, тряхнув Швейка за плечо, крикнул, стоя под большим мрачным образом Франциска Салеского:
– Признайся, подлец, что ревел ты только так, для смеха!
Франциск Салеский вопросительно глядел с иконы на Швейка. А с другой стороны на Швейка с изумлением взирал какой-то мученик. В зад ему кто-то вонзил зубья пилы, и какие-то неизвестные римские солдаты усердно пилили его. На лице мученика не видно было ни страдания, ни удовольствия, ни сияния мученичества. Его лицо выражало только удивление, как будто он хотел сказать: «Как это я, собственно, дошел до жизни такой и что вы, господа, со мной делаете?»
– Так точно, господин фельдкурат, – сказал Швейк серьезно, все ставя на карту, – исповедуюсь всемогущему Богу и вам, достойный отец, что я ревел, правда, только для смеху. Я видел, что в вашей проповеди не хватает кающегося грешника, к которому вы тщетно взывали, вот и решил доставить вам это удовольствие, чтобы вы не думали, будто нет уже порядочных людей. Да и сам я хотел поразвлечься, чтобы повеселело на душе.
Фельдкурат пытливо посмотрел на простодушную физиономию Швейка. Солнечный луч заиграл на мрачной иконе Франциска Салеского и согрел удивленного мученика на противоположной стене.
– Вы мне начинаете нравиться, – сказал фельдкурат, снова садясь на стол. – Какого полка? – спросил он, икая.
– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, что принадлежу и не принадлежу к Девяносто первому полку и вообще не знаю, что со мною происходит.
– А за что вы здесь-то сидите? – спросил фельдкурат, не переставая икать.
Из часовни доносились звуки фисгармонии, заменявшей орган. Музыкант-учитель, которого посадили за дезертирство, изливал свою душу в самых тоскливых церковных мелодиях. Звуки эти сливались с икотой фельдкурата в какой-то неведомой доселе дорической гамме.
– Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я, по правде сказать, не знаю, за что тут сижу. Но я не жалуюсь. Мне просто не везет. Я все стараюсь как получше, а у меня все выходит колом, все равно как у того мученика на иконе.
Фельдкурат посмотрел на икону, улыбнулся и сказал:
– Вы мне, ей-богу, нравитесь! Придется порасспросить о вас у следователя. Ну а больше болтать с вами я не буду. Скорее бы отделаться от этой святой мессы. Kehrt euch! Abtreten![42 - Кругом! Марш! (нем.)]
Вернувшись в родную семью голоштанников, стоявших у амвона, Швейк на вопросы, чего, мол, фельдкурат от него хотел, ответил очень сухо и коротко:
– Вдрызг пьян.
За следующим номером программы – святой мессой – публика следила с напряженным вниманием и нескрываемой симпатией. Один из арестантов даже побился об заклад, что фельдкурат уронит чашу с дарами. Он поставил весь свой паек хлеба против двух оплеух – и выиграл.
Нельзя сказать, чтобы чувство, которое наполняло в часовне души тех, кто созерцал исполняемые фельдкуратом обряды, было мистицизмом верующих или набожностью верных католиков. Скорее оно напоминало то чувство, какое появляется в театре, когда мы не знаем содержание пьесы, а действие все запутывается, и мы с нетерпением ждем развязки. Все были захвачены представлением, которое давал фельдкурат у алтаря. Арестанты не спускали глаз с ризы, которую фельдкурат надел наизнанку, все были воодушевлены и захвачены разыгрываемым у алтаря зрелищем, испытывая при этом эстетическое наслаждение. Рыжий министрант, дезертир из духовных, специалист по мелким кражам в Двадцать восьмом полку, честно старался восстановить по памяти весь ход действия, технику и текст святой мессы. Он был для фельдкурата одновременно и министрантом, и суфлером, что не мешало фельдкурату с необыкновенной легкостью переставлять целые фразы. Вместо обычной мессы фельдкурат раскрыл в требнике Рождественскую мессу и начал ее служить, к вящему удовольствию публики. Он не обладал ни голосом, ни слухом, и под сводами церкви раздавались визг и рев, словно в свином хлеву.
– Ну и нализался, нечего сказать, – с полным удовлетворением заговорили перед алтарем. – Здорово его развезло! Наверно, опять где-нибудь у девок напился.
Пожалуй, уже в третий раз у алтаря раздавалось пение фельдкурата «Ite missa est!», напоминавшее воинственный клич индейцев, от которого дребезжали стекла. Затем фельдкурат еще раз заглянул в чашу – проверить, не осталось ли там хоть капли вина, поморщился и обратился к слушателям:
– Ну, теперь, подлецы, можете идти домой. Конец. Я заметил, что вы не проявляете той истинной набожности, которую подобало бы проявить в церкви перед святым алтарем. Хулиганы! Перед лицом Всевышнего вы не стыдитесь громко смеяться и кашлять, харкать и шаркать ногами… даже при мне, хотя я здесь представитель Девы Марии, Иисуса Христа и Бога-Отца, болваны! Если это повторится впредь, то я с вами расправлюсь как следует. Вы будете знать, что существует не только тот ад, о котором я вам позапрошлый раз говорил в проповеди, но и ад на земле! Может быть, от первого вы и спасетесь, но от второго вам у меня не спастись. Abtreten!
Фельдкурат, так хорошо и оригинально проводивший в жизнь старый, избитый обычай посещения узников, прошел в ризницу, переоделся, велел себе налить церковного вина из громадной оплетенной бутыли, выпил и с помощью рыжего министранта сел на свою верховую лошадь, которая была привязана во дворе. Но тут он вспомнил о Швейке, слез с лошади и пошел в канцелярию к следователю Бернису.
Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, который невероятно скучал на службе и писал немецкие стихи в свою записную книжку, чтобы всегда иметь наготове запасец. Он представлял собой важнейшее звено аппарата военного суда, так как в его руках было сосредоточено такое количество протоколов и совершенно запутанных актов, что он внушал уважение всему военно-полевому суду на Градчанах. Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову; он судил дезертиров за воровство, а воров – за дезертирство; устраивал политические процессы, высасывая материал из пальца; он прибегал к разнообразнейшим фокусам, чтобы уличить обвиняемых в преступлениях, которые тем никогда и не снились, выдумывал оскорбления величества и эти им самим сочиненные выражения инкриминировал тем обвиняемым, материалы против которых терялись у него в постоянном хаосе служебных актов и других официальных бумаг.
– Servus![43 - Привет! (нем.)] – сказал фельдкурат, подавая ему руку. – Как дела?
– Неважно, – ответил военный следователь Бернис. – Перепутали мне материалы, теперь в них сам черт ничего не разберет. Вчера я послал начальству уже обработанный материал об одном молодчике, которого обвиняют в мятеже, а мне все вернули назад, дескать, потому, что дело идет не о мятеже, а о краже консервов. Кроме того, я поставил не тот номер. Как они и до этого добрались, ума не приложу!
Военный следователь плюнул.
– Ходишь еще играть в карты? – спросил фельдкурат.
– Продулся я в карты. Последний раз играли мы с полковником, с тем плешивым, в макао, так я все ему просадил. Зато у меня есть на примете одна девочка… А ты что поделываешь, святой отец?
– Мне нужен денщик, – сказал фельдкурат. – Последний мой денщик был старик бухгалтер, без высшего образования, но скотина первоклассная. Вечно молился и хныкал, чтобы Бог сохранил его от беды и напасти, ну, я его и послал с маршевым батальоном на фронт. Говорят, этот батальон расколошматили в пух и прах. Потом мне прислали одного молодчика, который ничего не делал, только сидел в трактире и пил на мой счет. Этого бы еще можно было вытерпеть, да уж очень у него ноги потели. Пришлось и его послать с маршевым батальоном. А сегодня нашел я одного типа, который во время проповеди, смеху ради, разревелся. Вот такого-то мне и нужно. Фамилия его Швейк, а сидит в шестнадцатой. Интересно бы знать, за что его посадили и нельзя ли мне его как-нибудь оттуда вытащить?
Следователь стал рыться в ящиках стола, отыскивая дело Швейка, но, как всегда, не мог ничего найти.
– Наверно, у капитана Лингардта, – сказал он после долгих поисков. – Черт их знает, куда у меня пропадают все дела! Видно, я их послал Лингардту. Позвоню-ка ему… Алло! У телефона следователь поручик Бернис. Господин капитан, будьте добры, нет ли там у вас бумаг относительно некоего Швейка? Должны быть у меня?.. Странно… Сам от вас принимал? Действительно странно… Сидит в шестнадцатой… Да, я знаю, господин капитан, что шестнадцатая у меня. Но я думал, что бумаги о Швейке где-нибудь там у вас валяются… Вы просите с вами так не говорить? У вас ничего не валяется? Алло! Алло!
Военный следователь Бернис, огорченный, присел к столу и принялся осуждать беспорядок в ведении следствия. Между ним и капитаном Лингардтом давно уже существовала неприязнь, причем ни тот ни другой не хотел уступить. Если бумага, относившаяся к делам Лингардта, попадала в руки к Бернису, то Бернис засовывал ее так далеко, что потом уже никто не мог ее найти. Лингардт то же самое делал с бумагами, относящимися к делам Берниса. Точно так же пропадали и приложения к делам.[44 - Тридцать процентов людей, сидевших в гарнизонной тюрьме, пробыли там всю войну и ни разу не были на допросе. – Примеч. авт.]
(Дело Швейка было найдено в архиве военно-полевого суда только после переворота со следующей пометкой: «Намеревался сбросить маску лицемерия и открыто выступить против особы нашего государя и нашего государства». Дело Швейка было засунуто среди бумаг какого-то Йозефа Куделя. На обложке дела был поставлен крестик, а под ним: «Приведено в исполнение» и дата.)
– Итак, пропал у меня Швейк, – сказал Бернис. – Велю вызвать его сюда и, если он ни в чем не признается, отпущу. Я прикажу отвести его к тебе, а остальное ты уж сам в полку устрой.
После ухода фельдкурата следователь Бернис велел привести к себе Швейка. Но он заставил его ждать у дверей, так как в этот момент получил телефонограмму из полицейского управления о том, что затребованный материал к обвинительному акту № 7267, касающийся рядового пехоты Мейкснера, был принят канцелярией № 1 за подписью капитана Лингардта.
Швейк между тем разглядывал канцелярию военного следователя.
Нельзя сказать, чтобы обстановка здесь производила очень приятное впечатление, особенно фотографии различных экзекуций, произведенных армией в Галиции и в Сербии. Это были художественные фотографии спаленных хат и сожженных деревьев, ветви которых пригнулись под тяжестью повешенных. Особенно хороша была фотография из Сербии, изображавшая повешенную семью: маленький мальчик, отец и мать. Двое вооруженных солдат охраняют дерево, на котором висят несколько человек, а на переднем плане с видом победителя стоит офицер, курящий сигарету. Вдали видна действующая полевая кухня.
– Ну, так как же с вами быть, Швейк? – спросил следователь Бернис, приобщая телефонограмму к делу. – Что вы там натворили? Признаетесь или же будете ждать, пока составим на вас обвинительный акт? Этак не годится! Не воображайте, что вы находитесь перед каким-нибудь судом, где ведут следствие штатские балбесы. У нас суд военный. К. u. k. Milit?rgericht.[45 - Императорско-королевский военный суд (нем.).] Единственным вашим спасением от строгой и справедливой кары может быть только полное признание.
У следователя Берниса был «свой собственный метод» на случай утери материала против обвиняемого. Но, как видите, в этом методе не было ничего особенного, поэтому не приходится удивляться, что результаты такого рода расследования и допроса всегда равнялись нулю.
Следователь Бернис считал себя настолько проницательным, что, не имея материала против обвиняемого, не зная, в чем его обвиняют и за что он вообще сидит в гарнизонной тюрьме, из одних только наблюдений за поведением и выражением лица допрашиваемого выводил заключение, за что этого человека держат в тюрьме. Его проницательность и знание людей были так глубоки, что одного цыгана, который попал в гарнизонную тюрьму из своего полка за кражу нескольких дюжин белья (он был подручным у каптенармуса), Бернис обвинил в политическом преступлении: дескать, тот в каком-то трактире вел агитацию среди солдат за создание самостоятельного чехословацкого государства во главе с королем-славянином.
– У нас на руках документы, – сказал он несчастному цыгану, – вам остается только признаться, в каком трактире вы это говорили, какого полка были те солдаты, что вас слушали, и когда это произошло.
Несчастный цыган выдумал и дату, и трактир, и полк, к которому принадлежали его мнимые слушатели, а когда возвращался с допроса, просто сбежал из гарнизонной тюрьмы.
– Вы не желаете ни в чем признаться? – спросил Бернис, видя, что Швейк хранит гробовое молчание. – Вы не хотите сказать, как вы сюда попали, за что вас посадили? Мне-то по крайней мере вы могли бы это сказать, пока я сам вам не напомнил. Предупреждаю еще раз, признайтесь. Вам же лучше будет, ибо это облегчит расследование и уменьшит наказание. В этом отношении у нас то же, что и в гражданских судах.
– Осмелюсь доложить, – прозвучал наконец добродушный голос Швейка, – я здесь, в гарнизонной тюрьме, вроде как найденыш.
– Что вы хотите этим сказать?