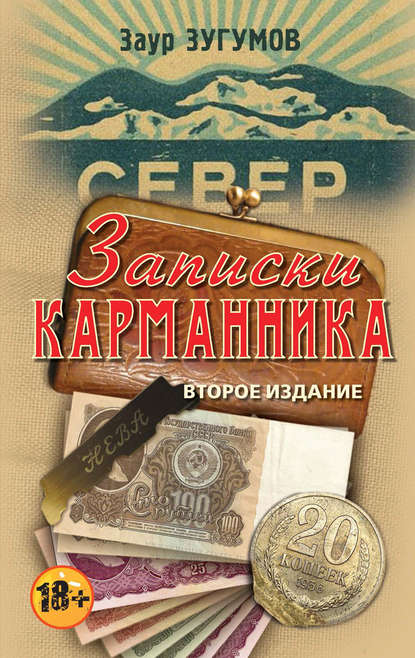По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Записки карманника (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Стиры – карты, изготовленные в местах лишения свободы. Чаще всего это происходит в крытых и ПКТ, так как в зоне всегда есть возможность переправить с воли фабричные карты. Называются они так потому, что шулера часто стирали символы на картах. Представляют они собой аккуратно нарезанные листы бумаги, склеенные в четыре, иногда и в пять слоев, все зависит от ее толщины. Как правило, это простая, то есть, не лощеная бумага с продольным слоем, на которую наносится клейстер. Затем следует просушка, прессовка, обрезание неровных концов, печатание, заточка и заправка. Весь процесс занимает не менее суток.
Сделали «объявку» – объявили о чем-то очень важном на данный момент.
С хозяином, кумом и еще несколькими мусорами – с начальником колонии, начальником оперчасти и еще несколькими сотрудниками администрации колонии.
Тусовались – ходили, беседуя.
Урок было двое – воров в законе было двое.
Фраерского апломба – чрезмерной самоуверенности.
Фуфлыжник – уплата карточного долга – это дело святое и арестант, который не смог его вернуть, в лучшем случае становится фуфлыжником. А чаще, как говорят на зоне, его очко уходит в зрительный зал. Для бродяг игра с фуфлыжником, хоть и на сразу – табу, в противном случае бродяга переходит в разряд лагерных изгоев.
Халдеев – шестерок.
Хата была забита под завязку – камера была переполнена народом.
Чалился у хозяина – отбывал срок наказания в колонии.
Чахоточный глухарь-четверташник – больной туберкулезом, засиженный заключенный, у которого срок был двадцать пять лет.
Червонец он отстегнул на общак, как только зашел в хату – десять рублей он тут же отдал на общак, как только вошел в камеру.
Чифирь – чрезвычайно крепко заваренный чай. Обычно в трехсотграммовую кружку с водой засыпают пятидесятиграммовую пачку.
Чифирбак – посуда, предназначенная для приготовления чифиря, обычно – поллитровая алюминиевая кружка, которую выдают в колонии.
Шпанюков – воров в законе.
Малява
Эх, малолетка, малолетка! И чему только я не научился еще пацанёнком, проведя в тюремных застенках часть детства и почти все годы отрочества – начало своего долгого пути по тюрьмам и лагерям нашей необъятной Страны Советов? Сначала, в 1959 году, меня, двенадцатилетнего мальчишку, водворили в ДВК (детскую воспитательную колонию), где я провел два с половиной года, пока меня не забрал оттуда только что освободившийся из мест заключения отец.
Но свободой я наслаждался недолго, да и не дорожил ею, еще даже не осознавая в полной мере, что означает это слово, и в результате через несколько месяцев за уголовное преступление вновь оказался запертым в четырех стенах, но теперь уже на тюремных нарах.
Мне тогда только-только исполнилось четырнадцать лет, а значит, я уже был подсуден и получил три года за воровство. Приговор народного суда города Махачкалы я отбыл, как и положено молодому босяку, от звонка до звонка. Больше того, за это относительно недолгое время я несколько раз побывал «под раскруткой», а последними местами моего заключения за эти три года были колония «специально усиленного» режима в Нерчинске (одна из всего двух на весь Советский Союз) и ростовская тюрьма, откуда я и освободился.
Таким образом, еще до наступления совершеннолетия я умудрился провести в неволе пять с половиной лет.
Какие только «капканы» не выкидывали мы тогда мусорам, лишь бы только навредить режимным службам и тем самым обратить на себя внимание взрослых бродяг и урок! Что только не предпринимали для того, чтобы научиться быть истинными каторжанами! А сколько безумств вытворяли в камерах, на прогулочных дворах и в коридорах тюрьмы, трудно даже перечислить.
Конечно же, за это время случалось множество любопытных и курьезных случаев, в которых я был либо очевидцем, либо самым непосредственным участником.
Это случилось зимой, больше сорока лет тому назад, в восемнадцатой камере махачкалинской тюрьмы, которая располагалась тогда на втором этаже серого, всегда хмурого и угрюмого Екатерининского строения. Было мне тогда чуть больше четырнадцати. Если посчитать, то окажется, что в тюрьме своего родного города мне довелось побывать пять раз, как до суда, так и после него. Суммируя все временные отрезки, получим чуть больше полутора лет, но, что характерно, махачкалинский каземат именно тех далеких лет запомнился мне больше всего. Если чуть-чуть поднапрячь память, то каждый свой прожитый в тюрьме день я смогу воспроизвести в мельчайших подробностях и деталях. Наша детская память – штука необычайно хваткая и оставляет зарубки на всю жизнь.
То было время не просто больших перемен, связанных с заменой денежных знаков и уголовного кодекса, это была еще и эпоха грандиозных преобразований в структуре ГУЛАГа. Если раньше, например, все заключенные содержались вместе (за исключением обитателей специальных лагерей), то теперь осужденные были разделены на пять режимов: общий, усиленный, строгий, особый и тюремный или в просторечии – «крытый».
Теперь уже мало кто знает, что в тюрьме Махачкалы, которая изначально имела статус следственного изолятора, с введением уголовного кодекса 1961 года появился еще и крытый режим содержания. Больше того, после введения высшей меры наказания – расстрела – махачкалинская тюрьма превратилась к тому же в тюрьму исполнительную. Здесь стали приводить в исполнение приговоры Верховного суда, а проще говоря, расстреливали осужденных на смерть людей.
За свою долгую жизнь в неволе мне пришлось объездить по этапам не одну сотню тюрем по всей стране, но, видит Бог, тюрьмы хуже, чем следственный изолятор Махачкалы, я не встречал. Может, это было связано с печальными страницами ее истории, а возможно – просто таково мое предвзятое мнение, но факт остается фактом: все те босяки, которые когда-либо чалились здесь, в один голос утверждают то же самое.
* * *
Думаю, читателю непросто будет представить, как малолетние правонарушители жили в такой тюрьме, где в камерах через стенку находились особо опасные рецидивисты, воры в законе, убийцы и разбойники, а на продоле тусовались попкари-исполнители. Но как бы ни влияли на нашу психику и поведение старшие заключенные, малолетка всегда оставалась малолеткой, со своими абсолютно дикими законами бытия, неслыханным беспределом и яростной жестокостью. Все это было порождением голодного послевоенного детства и закона джунглей, по которому нам приходилось даже не жить, а выживать на улице.
Камера, где мне пришлось провести чуть больше трех долгих зимних месяцев, по сравнению с другими, была довольно просторным квадратным помещением – двенадцать на двенадцать метров. Она отличалась от хат, где сидели взрослые заключенные. В ней было десять одноярусных панцирных шконарей, привинченных к деревянному полу, точно по числу находившихся в ее стенах юных арестантов. В остальном это была обычная тюремная хата: два огромных окна, на подоконнике которых запросто могли бы вытянуться несколько заключенных, безо всяких козырьков и ресничек – жалюзи, которых к тому времени еще не успели придумать институты ГУЛАГа, параша в левом от входа углу и длинный, тоже привинченный к полу, стол. Потолок был очень высоким, поэтому две шестидесятисвечовые лампочки были недосягаемы для подростков.
Администрация тюрьмы часто подсаживала в камеры, в которых содержались малолетки, взрослых заключенных. Это делалось, так сказать, в воспитательных целях. Называли таких «воспитателей» «паханы». В основном это были арестанты-первоходы, но с богатым жизненным опытом на свободе: шоферы, попавшие в тюрьму из-за аварий, унесших человеческие жизни, взяточники, растратчики государственной собственности и тому подобная публика. С нашей камерой тоже попытались было провести такой эксперимент, но мы этого горе-воспитателя ночью сначала избили хорошенько, а после этого еще и изнасиловали хором.
Арестанты из камер строгого режима дали нам вечером цинк, что воспитатель этот – ни кто иной, как конченая лагерная сука, из-за которой уже пострадало несколько человек. Они оказались в тюрьме именно по его доносам. Ясное дело, эта падаль боялась расправы и не могла находиться среди заключенных, знавших о его прошлом. Поэтому-то штатный воспитатель нашего корпуса, лейтенант-дегенерат с тупой физиономией самовлюбленного спортсмена, посадил его к нам в камеру, спасая от праведного гнева арестантов и даже не догадываясь о том, какую ошибку он совершает. Этого идиота потом сняли с работы, а против четверых из нас возбудили дело за мужеложство. В те времена такие действия подпадали под 121-ю статью нового уголовного кодекса.
Я и четверо моих сокамерников, кому еще не исполнилось шестнадцати лет, и одноглазый парень из Дербента избежали этой позорной участи. Целую неделю после случившегося мы терялись в догадках и никак не могли понять, каким образом менты узнали о происшедшем уже на следующее утро, еще до проверки, если до этого никто из камеры не выходил. Хоть мы и были тогда совсем еще зелеными пацанами, но принялись анализировать случившееся и припоминать похожие случаи.
А вспомнить было что. Однажды, например, после того как мы с одним парнишкой ночью сделали себе наколки, утром, чуть ли не с подъема, нас обоих утащили в карцер. Правда, втерли нам тогда лишь по пять суток, но все же…
Или еще случай. Тюремный забор с восточной стороны тюрьмы отделял ее от находившегося по соседству лагеря. Сейчас на этом месте строится новый следственный изолятор, а в те времена находилась первая махачкалинская колония общего режима. Так вот, осужденные из числа хозяйственной обслуги лагеря приходили в тюремный дворик, который располагался прямо под нашими окнами и был виден из них, и заготавливали дрова на зиму, пилили и кололи их. Малолеток, которые содержались прежде в одежде, в которой они были арестованы, после указа 1961 года начали полностью переодевать в робу. Обувь, правда, нам тогда еще оставляли. Вот мы и обменивались с этими чертополохами, закидывая вниз коня и спуская по нему обувь, а хозобслуга посылала нам за это анашу.
Несколько раз этот бартер удался, но однажды после утренней проверки пришло начальство и отобрало у нас обувь, которая хотя бы теоретически могла пользоваться спросом, оставив взамен какие-то безразмерные бахилы. Тех же, кто менял ее давеча, закрыли в карцер.
Произошло и еще несколько инцидентов, после которых некоторых из нас лишали передач, а иногородних – посылок. Так что нам всем было о чём призадуматься.
В то время в тюрьме находилось четверо жуликов: Паша и Джибин (муха) – два кореша-карманника были родом из Махачкалы, кроме них сидели Бондарь Воронежский и Коля Шоколадный из Витебска. У всех урок был крытый режим, а это значило, что содержались они отдельно от подследственных.
Однажды, по чистой случайности, мы все же схлестнулись со шпаной. «Крытники» тусовались в прогулочном дворике через стенку от нас. Никогда не забуду, как я был рад этой встрече, ведь с Джибином мы жили по соседству, в одном квартале, а наши с Пашей дома стояли вплотную друг к другу. Разумеется, оба они знали меня с раннего детства.
В любой тюрьме на прогулочных двориках между стенами и полом располагались небольшие отверстия для стока воды. Арестанты потихонечку, полегонечку расковыривали такую дырочку и со временем из неё получался внушительных размеров кабур, после использования которого, перед возвращением в камеру, аккуратно заделывали кусками асфальта или глины.
Был такой кабур и в нашем прогулочном дворике. Через него-то я почти всё время прогулки и проговорил с Пашей и Джибином. Я, конечно же, поведал им о том, что произошло у нас в хате с тем, и попросил их помочь вычислить иуду. В том, что нас сдали с потрохами, не было никаких сомнений. Вот только оставалось загадкой, кем и каким образом это было сделано.
* * *
– Есть ли в хате люди, которых ты знаешь со свободы? – спросил меня не в кипеш Паша.
– Да, есть двое, – ответил я. – Шайтан и Андрюха, мой приятель со старой Махачкалы. Я тычил с ними на свободе и знаю их с детства. Пацаны нашенские, никогда ни в чем зазорном замечены не были.
– А ну-ка подзови их сюда.
Я окликнул обоих, и, когда они подошли и согнулись над кабуром, Паша не спеша и в мельчайших деталях объяснил, что мы должны сделать, чтобы выявить в камере эту молодою суку.
Клацанье ключа в замочной скважине прервало наше общение, но к тому времени мы обо всем уже успели поговорить и понять всё, что нам было нужно.
Возвратившись с прогулки в камеру, мы вели себя так же, как и обычно, стараясь не выдать бушевавшего в груди волнения. Не стоит забывать, что каждому из нас было тогда лишь чуть больше четырнадцати лет.
Почти целый день я протусовался по хате, понимая, что за мной наблюдают. Переваривая все то, что объяснил нам на прогулке Паша, и, можно сказать, впервые в своей жизни столкнувшись с таким и иным проявлением предательства, я никак не мог понять, как же этот гад, ломая с нами один кусок хлеба, мог пойти на такое.
Урки объяснили нам, что этой суке было легче всего цинковать ментам утром.
– Но как он это делал? – спросил я Пашу.