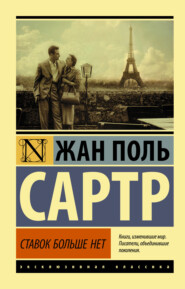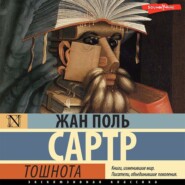По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Комната
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
II
«Он ушел». Входная дверь, громко щелкнув, закрылась. Ева была одна в гостиной. «Я хотела бы, чтоб он умер».
Она вцепилась руками в спинку кресла; она вспоминала глаза своего отца: господин Дарбеда наклоняется над Пьером с видом знатока; он говорит ему: «Ну вот и хорошо!», словно человек, умеющий разговаривать с больными; он смотрит на него, и лицо Пьера отражается на дне его больших живых глаз. «Я ненавижу его, когда он так на него смотрит, когда я думаю о том, что он его видит».
Руки Евы скользнули вдоль кресла, и она повернулась к окну. Свет ослепил ее. Комната была залита солнцем, оно было повсюду: круглые пятна на ковре, ослепительная искрящая пыль в воздухе. Ева отвыкла от этого нескромного и пронырливого света, который рылся всюду, очищал все уголки и, как хорошая хозяйка, до блеска натирал мебель. Тем не менее она подошла к окну и приподняла муслиновую занавеску, закрывавшую стекло. Как раз в эту минуту господин Дарбеда вышел из дому; Ева сразу узнала его широкие плечи. Он поднял голову, щурясь, посмотрел на небо и пошел размашистым шагом, словно молодой человек. «Он насилует себя, – подумала Ева, – скоро у него заколет в боку». Ненависти к нему она уже не испытывала: в его голове было совсем пусто, разве что жила жалкая забота о том, чтобы выглядеть молодым. Однако гнев снова охватил ее, когда он, повернув за угол на бульвар Сен-Жермен, исчез из виду. «Он думает о Пьере». Крошечная частица их жизни выскользнула из закрытой комнаты и тащилась по солнечным улицам, сквозь толпу. «Неужели нас никогда не оставят в покое?»
Улица дю Бак была почти безлюдна. Какая-то пожилая дама семенящей походкой переходила дорогу; смеясь, прошли три девушки. А потом мужчины, сильные и серьезные люди, которые несли папки, о чем-то переговаривались. «Вот они – нормальные люди», – подумала Ева, с удивлением обнаружив в себе такую силу ненависти. Красивая полная женщина подбежала к элегантному господину. Он обнял ее и поцеловал в губы. Ева зло ухмыльнулась. И опустила занавеску.
Пьер петь перестал, но молодая женщина с четвертого этажа заиграла на пианино – это был этюд Шопена. Ева немного успокоилась; она направилась было в сторону комнаты Пьера, но сразу остановилась и, охваченная легкой тревогой, прислонилась к стене: всякий раз, когда она выходила из комнаты, ее охватывал страх при мысли о том, что ей придется вернуться туда. Обычно она отлично знала, что не смогла бы жить в другом месте: она любила комнату. Словно пытаясь выиграть немного времени, она с холодным любопытством окинула взглядом эту комнату без теней и без запаха, где она ожидала, чтобы к ней вернулось мужество. «Ну просто приемная дантиста». Обитые розовым шелком кресла, диван и стулья выглядели по-отечески строго и скромно – этакие добрые друзья человека. Ева представила, как солидные и одетые в светлые одежды люди, точно такие же, каких она только что видела из окна, входят в гостиную, продолжая начатый разговор. Они не теряли времени даже на то, чтобы осмотреть место, куда они попали, они уверенным шагом прошли на середину комнаты; один из них, за которым его рука тащилась, словно след за кораблем, трогал по пути подушки, вещи, столы и даже не вздрагивал от соприкосновения с ними. А если какая-нибудь мебель мешала им пройти, эти степенные господа, вместо того чтобы обойти ее, спокойно переставляли ее на другое место. Наконец они уселись, все еще погруженные в свои разговоры, даже не оглянувшись назад. «Гостиная для нормальных людей», – подумала Ева. Она пристально смотрела на ручку запертой двери, и волнение сжимало ей горло. «Мне надо пойти к нему. Я никогда не оставляю его одного так надолго. Надо будет открыть эту дверь». Потом Ева будет стоять на пороге, пытаясь приучить свои глаза к полутьме, а комната изо всех сил будет стараться вытолкнуть ее. Еве надо будет преодолеть это сопротивление и проникнуть в сердце комнаты. Ее вдруг охватило неодолимое желание увидеть Пьера; ей очень хотелось бы посмеяться вместе с ним над господином Дарбеда. Но Пьер в ней не нуждался; Ева не могла предугадать, какой прием он ей окажет. Она вдруг не без гордости подумала, что нет у нее больше места нигде. «Нормальные еще думают, что я одна из них. Но я и часа не могу пробыть с ними. Мне необходимо жить там, по ту сторону этой стены. Но там меня не ждут».
Вокруг нее все совершенно изменилось. Свет постарел, поседел, он отяжелел, словно вода в вазе с цветами, которую не меняли со вчерашнего дня. На этих предметах, в этом состарившемся свете Ева вновь обрела печаль, которую она давно забыла, – послеполуденную печаль поздней осени. Она, нерешительная, почти оробевшая, озиралась вокруг – все было таким далеким, а там, в комнате, не было ни дня, ни ночи, ни осени, ни печали. Она смутно припомнила прежние очень давние осени, осени своего детства, но вдруг оцепенела: она боялась воспоминаний.
Послышался голос Пьера.
– Агата! Ты где?
– Иду, – ответила Ева.
Она открыла дверь и вошла в комнату.
Густой запах ладана ударял в ноздри, заполнял рот, а она широко раскрывала глаза и вытягивала вперед руки – запах и полумрак уже давно слились для нее в одну едкую и вязкую стихию, столь же простую и привычную, как вода, воздух или огонь; она осторожно продвинулась к бледному пятну, которое, казалось, плавало в тумане. Это было лицо Пьера; одежда Пьера (с тех пор, как он заболел, он одевался в черное) сливалась с темнотой. Пьер запрокинул голову и сидел закрыв глаза. Он был красив. Ева долго смотрела на его длинные, загнутые ресницы, потом присела рядом на низкий стул. «У него страдальческий вид», – подумала она. Глаза ее постепенно привыкали к полутьме. Первым выплыл письменный стол, потом кровать и, наконец, вещи Пьера: ножницы, банка с клеем, книги, гербарий, которые валялись на ковре у кресла.
– Агата?
Пьер открыл глаза, он с улыбкой смотрел на нее.
– Помнишь вилку? – спросил он. – Я сделал это, чтобы напугать того типа. В ней почти ничего не было.
Все страхи Евы развеялись, и она весело рассмеялась:
– У тебя очень хорошо получилось, ты его полностью из себя вывел.
Пьер улыбнулся.
– Ты видела? Он долго ее щупал, держал ее двумя руками. Все дело в том, – сказал он, – что они не умеют брать вещи; они грубо их хватают.
– Это верно, – сказала Ева.
Пьер слегка постучал указательным пальцем правой руки по ладони левой.
– Вот как они это делают. Они подносят к вещи свои пальцы, а схватив вещь, прихлопывают ее ладонью, чтобы убить.
Говорил он быстро, кончиками губ; вид у него был растерянный.
– Интересно, чего они хотят, – сказал он. – Этот тип уже приходил. Почему они подослали его ко мне? Если они хотят знать, чем я занимаюсь, им остается лишь прочесть об этом на экране, им даже не нужно выходить из дома. Они совершают ошибки. Они имеют власть, но допускают ошибки. Я же никогда не совершаю ошибок, в этом мой козырь. Хоффка, – сказал он, – хоффка.
Он замахал своими длинными руками перед лицом: «Ах, блядь! Хоффка, паффка, сюффка. Еще хочешь получить?»
– Это колокол? – спросила Ева.
– Да. Он уехал. – Он сурово продолжал: – Этот тип – мелкая сошка. Ты знаешь его, ты ушла с ним в гостиную.
Ева не ответила.
– А чего он хотел? – спросил Пьер. – Он должен был сказать тебе об этом.
Она на мгновение замешкалась, потом резко ответила:
– Он хотел, чтобы тебя заперли в лечебницу.
Если Пьеру правду говорили вкрадчиво, он ей не верил, нужно было больно ушибить его правдой, чтобы заглушить и парализовать его подозрения. Ева считала, что лучше обходиться с ним грубо, чем лгать: когда она лгала ему и казалось, что он ей верит, она не могла подавить в себе легчайшего ощущения превосходства, которое внушал ей ужас перед самой собой.
– Меня запереть! – с иронией повторил Пьер. – У них крыша поехала. Что мне стены? Они, наверное, думают, что стены могут меня остановить. Я спрашиваю себя иногда, а не существует ли на самом деле две банды. Настоящая – это банда негра. И банда путаников, которые во все суют свой нос и делают глупость за глупостью.
Он застучал рукой по подлокотнику кресла и с радостным видом на нее посмотрел.
– Через стены ведь можно пройти. И что же ты ему ответила? – спросил он, с любопытством оборачиваясь к Еве.
– Что тебя не запрут.
Он пожал плечами:
– Этого не надо было говорить. Ты тоже совершила ошибку, если, конечно, не сделала ее нарочно. Надо было вынудить их раскрыть карты.
Он умолк. Ева печально опустила голову. «Они грубо их хватают!» Каким презрительным тоном он это сказал и как это верно; и неужели я тоже хватаю вещи? Напрасно я слежу за собой, я думаю, что большинство моих жестов его раздражает. Но он об этом не говорит. Она вдруг почувствовала себя такой же несчастной, как в четырнадцать лет, когда госпожа Дарбеда, молодая и легкая, сказала ей: «Можно подумать, ты не знаешь, куда девать свои руки». Она боялась пошевельнуться, и, как назло, именно в эту минуту ее охватило непреодолимое желание сменить позу. Осторожно, едва касаясь ковра, она подтянула под стул ноги. Она посмотрела на настольную лампу, ножку которой Пьер выкрасил в черный цвет, на шахматы. На доске Пьер оставил лишь черные пешки. Иногда он вставал, подходил к столику и брал пешки в руки. Он разговаривал с ними, называл их Роботами, и казалось, что в его пальцах они начинали жить какой-то тайной жизнью. Когда он ставил их на место, Ева тоже трогала их (ей казалось, что при этом она выглядит чуть комично), пешки вновь превращались в кусочки мертвого дерева, но в них оставалось нечто смутное и неуловимое, нечто имеющее смысл. «Это его вещи, – думала она. – В комнате больше нет ничего моего». В прошлом ей принадлежало кое-что из мебели. Зеркало и туалетный столик с инкрустацией, который достался ей от бабушки и который Пьер в шутку называл «твой столик». Вещи эти принес в комнату Пьер, и только ему вещи открывали свое истинное лицо. Ева могла часами наблюдать за ними – с каким-то постоянным и злым упрямством они старались обмануть ее, неизменно поворачиваясь к ней так же, как к доктору Франшо или господину Дарбеда, – лишь своей внешностью. «Хотя я вижу их не совсем такими, как мой отец, – с тревогой думала она. – Не может быть, чтобы я видела их так же, как и он».
Она слегка пошевелила коленями: ноги у нее затекли. Напряженное, одеревеневшее ее тело причиняло боль; она ощущала его, как слишком живое и нескромное. «Хорошо бы стать невидимкой и находиться здесь; я бы видела его, а он меня нет. Он во мне не нуждается; я совершенно лишняя в комнате». Она слегка повернула голову и взглянула поверх Пьера на стену. На стене были начертаны угрозы. Ева знала это, но не могла их прочесть. Она часто разглядывала большие красные розы на обоях, рассматривала их до тех пор, пока они не начинали прыгать у нее перед глазами. В полутьме розы пылали ярким пламенем. Чаще всего угроза была выписана под потолком, слева от кровати, хотя иногда она смещалась. «Я должна встать, я больше не могу сидеть так, не могу». На обоях еще были белые круги, похожие на ломтики нарезанного лука. Круги закружились вокруг своей оси, и у Евы задрожали руки. «В какие-то мгновения я схожу с ума. Но нет, – с досадой думала она, – я не могу сойти с ума. Я просто нервничаю».
Неожиданно она почувствовала прикосновение руки Пьера.
– Агата, – нежно сказал Пьер.
Он улыбался ей, но держал ее руку кончиками пальцев с каким-то отвращением, словно он взял за туловище краба и старался, чтобы тот не схватил его клешнями.
– Агата, – сказал он, – мне так хотелось бы тебе доверять.
Ева закрыла глаза, и грудь ее слегка приподнялась. «Не надо ничего отвечать, иначе он опять замкнется в себе и больше не скажет ни слова».
Пьер отпустил ее руку.
– Я тебя очень люблю, Агата, – сказал он. – Но понять тебя не могу. Почему ты все время находишься в этой комнате?
Ева молчала.
– Ответь, почему.
– Ты прекрасно знаешь, что я люблю тебя, – сухо сказала она.
Другие электронные книги автора Жан-Поль Сартр
Другие аудиокниги автора Жан-Поль Сартр
Тошнота




 0
0
Ставок больше нет




 2.67
2.67