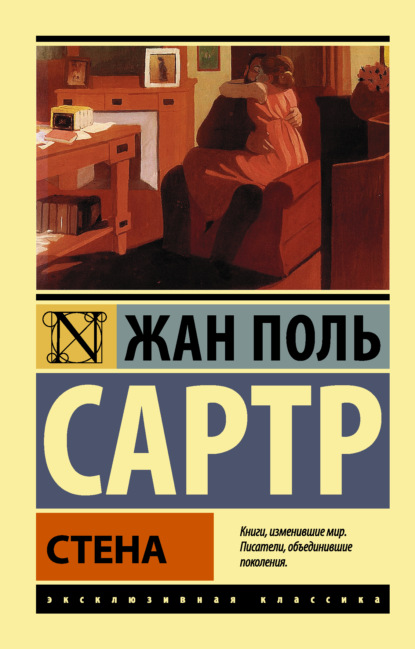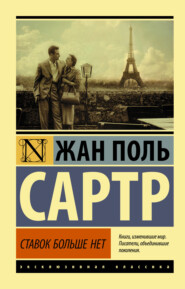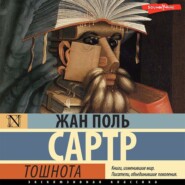По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стена
Автор
Жанр
Год написания книги
1939
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Или ты, или он. Если скажешь, где он, будешь жить.
И все же этим типам в их галстуках и сапожищах тоже предстояло помереть. Правда, позже, чем мне, но, в сущности, не намного. Они выуживали из своих бумаг какие-то имена, они гонялись за людьми, чтобы посадить их или расстрелять: у них были свои взгляды на будущее Испании и на многое другое. Их деловитая прыть коробила меня и казалась комичной, они выглядели спятившими, и я не хотел бы оказаться на их месте.
Смехотворный толстяк-коротышка неотрывно смотрел на меня, похлопывая хлыстом по сапогу. Все его движения были точно рассчитаны: ему хотелось производить впечатление лютого зверя.
– Ну что, ты понял?
– Мне неизвестно, где сейчас Грис, – ответил я. – Может, в Мадриде.
Другой офицер вяло поднял руку. И эта вялость тоже была рассчитанной. Я отлично видел все их загодя продуманные приемы и поражался, что находятся люди, которым все это доставляет удовольствие.
– Мы даем вам четверть часа на размышление, – сказал он, – отведите его в бельевую, через четверть часа приведите обратно. Если будет запираться, расстреляйте немедленно.
Сволочи, они знали, что делают: я провел в ожидании ночь, потом меня заставили просидеть еще час в подвале, пока расстреливали Хуана и Тома, а теперь они намеревались запереть меня в бельевой – несомненно, они подготовили эту штуку еще вчера. Они решили, что нервы мои не выдержат всех этих проволочек и я сломаюсь. Но тут они дали маху. Разумеется, я знал, где скрывается Грис. Он прятался у своих двоюродных братьев, в четырех километрах от города. Так же хорошо я знал, что не выдам его убежище, если только они не начнут меня пытать (но, кажется, они об этом не помышляли). Все это было для меня стопроцентно ясно, не вызывало сомнений и, в общем, нисколько не интересовало. И все же мне хотелось понять, почему я веду себя так, а не иначе. Почему я предпочитаю сдохнуть, но не выдать Рамона Гриса? Почему? Ведь я больше не любил Рамона. Моя дружба к нему умерла на исходе ночи: тогда же, когда умерли моя любовь к Конче и мое желание жить. Конечно, я всегда его уважал: это был человек стойкий. И все-таки вовсе не потому я согласился умереть вместо него: его жизнь стоила мне дороже моей – любая жизнь не стоит ни гроша. Когда человека толкают к стене и палят по нему, пока он не издохнет: кто бы это ни был – я, или Рамон Грис, или кто-то третий – все в принципе равноценно. Я прекрасно знал, что он был нужнее Испании, но теперь мне было начхать и на Испанию, и на анархизм: ничто больше не имело значения. И все-таки я здесь, я могу спасти свою шкуру, выдав Рамона Гриса, но я этого не делаю. Мое ослиное упрямство казалось мне почти забавным. Я подумал: «Ну можно ли быть таким болваном!» Я даже как-то развеселился. За мной снова пришли и повели в ту же комнату. У ног моих прошмыгнула крыса, это меня тоже позабавило. Я обернулся к одному из фалангистов:
– Гляди, крыса.
Конвойный не ответил. Он был мрачен, он все принимал всерьез. Мной овладело желание расхохотаться, но я сдержался: побоялся, что если начну, то не смогу остановиться. Фалангист был усат. Я сказал ему:
– Сбрей усы, кретин.
Мне показалось смешным, что человек допускает еще при жизни, чтоб лицо его обрастало шерстью. Он лениво дал мне пинка, я замолчал.
– Ну что, – спросил толстяк, – ты надумал?
Я взглянул на него с любопытством, как смотрят на редкостное насекомое, и ответил:
– Да, я знаю, где он. Он прячется на кладбище. В склепе или в домике сторожа.
Мне захотелось напоследок разыграть их. Я хотел поглядеть, как они вскочат, нацепят свои портупеи и станут с деловым видом сыпать приказами. Они действительно повскакали с мест.
– Пошли. Молес, возьмите пятнадцать человек у лейтенанта Лопеса.
– Если это правда, – сказал коротышка, – я сдержу свое слово. Но если ты нас водишь за нос, тебе не поздоровится.
Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от времени я ухмылялся: забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что я поступил очень остроумно. Я живо представлял, как они распахивают двери склепов, приподымают могильные камни. Я видел все это сторонним взглядом: упрямый арестант, вздумавший корчить из себя героя, солидные усатые фалангисты и люди в военной форме, шныряющие среди могил, – поистине уморительная картина. Через полчаса толстяк вернулся. Я подумал: сейчас он прикажет меня расстрелять. Остальные, очевидно, остались на кладбище. Но офицер внимательно поглядел на меня. Он вовсе не выглядел одураченным.
– Отведите его на главный двор, к остальным, – сказал он. – После окончания боевых действий его судьбу решит трибунал.
Я подумал, что не так его понял. Я спросил:
– Как, разве меня не расстреляют?
– Во всяком случае, не сейчас. И потом, это уже не по моей части.
Я все еще не понимал.
– Но почему?
Он молча передернул плечами, солдаты увели меня. На общем дворе толпилось около сотни арестованных: старики, дети. В полном недоумении я принялся бродить вокруг центральной клумбы. В полдень нас повели в столовую. Двое или трое пытались со мной заговорить. Очевидно, мы были знакомы, но я им не отвечал: я больше не понимал, где я и что. К вечеру во двор втолкнули дюжину новых арестантов. Среди них я узнал булочника Гарсиа. Он крикнул мне:
– А ты везучий! Вот уж не думал увидеть тебя живым.
– Они приговорили меня к расстрелу, – отозвался я, – а потом передумали. Не могу понять почему.
– Меня взяли в два часа, – сказал Гарсиа.
– За что?
Гарсиа политикой не занимался.
– Понятия не имею, – ответил Гарсиа, – они хватают каждого, кто думает не так, как они.
Он понизил голос:
– Грис попался.
Я вздрогнул.
– Когда?
– Сегодня утром. Он свалял дурака. В среду вдрызг разругался с братцем и ушел от него. Желающих его приютить было хоть отбавляй, но он никого не захотел ставить под удар. Он сказал мне: «Я бы спрятался у Иббиеты, но раз его арестовали, спрячусь на кладбище».
– На кладбище?
– Да. Нелепая затея. А сегодня утром они туда нагрянули. Накрыли его в домике сторожа. Грис отстреливался, и они его прихлопнули.
– На кладбище!
Перед глазами у меня все поплыло, я рухнул на землю. Я хохотал так неудержимо, что из глаз хлынули слезы.
Комната
I
Мадам Дарбеда держала в пальцах рахат-лукум. Она осторожно приблизила его к губам и задержала дыхание, опасаясь, что взлетит легкая сахарная пудра. Она подумала: «Этот рахат-лукум из лепестков розы». Потом резко прокусила стекловидную плоть, запах гнили тотчас заполнил ее рот. «Любопытно, как болезнь утончает ощущения». Мадам Дарбеда вспомнила мечети и слащавых, покорных людей Востока (она провела в Алжире свое свадебное путешествие), и на ее бледных губах возникло подобие улыбки: рахат-лукум был тоже сладок и покорен.
Пришлось несколько раз провести ладонью по страницам книги, так как, несмотря на предосторожность, они покрылись тонким слоем белой сахарной пыли. Под руками мадам Дарбеда на гладкой бумаге похрустывали маленькие крупицы сахара. «Это напоминает мне Аркашон, когда я читала на пляже…» Лето 1907 года она провела на берегу моря. Она носила тогда широкополую соломенную шляпу с зеленой лентой; мадам Дарбеда располагалась около дамбы с романом Жип или Колетт. Ветер швырял на ее колени горсти песка, и время от времени она трясла книгу, держа ее за углы. То же самое ощущение: только песчинки были совсем сухие, а маленькие пылинки сахара немного прилипали к пальцам. Она вновь представила полоску жемчужно-серого неба над темным морем. Ева тогда еще не родилась. Мадам Дарбеда была доверху заполнена воспоминаниями и ощущала себя драгоценной, как сандаловая шкатулка. Внезапно в ее памяти всплыло название романа: он назывался «Маленькая женщина» и был занятным. Но с тех пор, как непонятный недуг приковал ее к этой комнате, мадам Дарбеда предпочитала мемуары и исторические опусы. Ей хотелось, чтобы благодаря своим страданиям, серьезному чтению, сосредоточенным воспоминаниям и прихотливым ассоциациям она вызревала как прекрасный оранжерейный плод.
Она подумала немного раздраженно, что скоро в дверь постучит ее муж. В остальные дни недели он приходил только к вечеру, молча целовал ее в лоб и, усевшись напротив нее в глубоком кресле, читал «Тан». Но четверг был «днем» месье Дарбеда. В течение часа он должен был быть у дочери – обычно с трех до четырех. Перед этим он заходил к жене, и оба они с горечью говорили о зяте. Эти разговоры по четвергам, известные заранее до мельчайших деталей, изнуряли мадам Дарбеда. Месье Дарбеда переполнял спокойную комнату своим присутствием. Он непрерывно шагал взад-вперед, делал резкие повороты. Его повадки ранили мадам Дарбеда, как звон разбитого стекла. В этот же четверг было еще хуже, чем обычно: при одной мысли, что сегодня ей придется повторить мужу признание Евы и увидеть, как его большое устрашающее тело подпрыгнет от ярости, ей становилось дурно. Ее прошибло потом. Она взяла с блюдца рахат-лукум, нерешительно рассматривала его несколько мгновений, затем грустно положила назад: ей не хотелось, чтобы муж видел, как она лакомится этой сластью.
Услышав его стук, она вздрогнула.
– Входи, – сказала она слабым голосом.
Месье Дарбеда вошел на цыпочках.
– Сейчас пойду к Еве, – сказал он, как обычно.
И все же этим типам в их галстуках и сапожищах тоже предстояло помереть. Правда, позже, чем мне, но, в сущности, не намного. Они выуживали из своих бумаг какие-то имена, они гонялись за людьми, чтобы посадить их или расстрелять: у них были свои взгляды на будущее Испании и на многое другое. Их деловитая прыть коробила меня и казалась комичной, они выглядели спятившими, и я не хотел бы оказаться на их месте.
Смехотворный толстяк-коротышка неотрывно смотрел на меня, похлопывая хлыстом по сапогу. Все его движения были точно рассчитаны: ему хотелось производить впечатление лютого зверя.
– Ну что, ты понял?
– Мне неизвестно, где сейчас Грис, – ответил я. – Может, в Мадриде.
Другой офицер вяло поднял руку. И эта вялость тоже была рассчитанной. Я отлично видел все их загодя продуманные приемы и поражался, что находятся люди, которым все это доставляет удовольствие.
– Мы даем вам четверть часа на размышление, – сказал он, – отведите его в бельевую, через четверть часа приведите обратно. Если будет запираться, расстреляйте немедленно.
Сволочи, они знали, что делают: я провел в ожидании ночь, потом меня заставили просидеть еще час в подвале, пока расстреливали Хуана и Тома, а теперь они намеревались запереть меня в бельевой – несомненно, они подготовили эту штуку еще вчера. Они решили, что нервы мои не выдержат всех этих проволочек и я сломаюсь. Но тут они дали маху. Разумеется, я знал, где скрывается Грис. Он прятался у своих двоюродных братьев, в четырех километрах от города. Так же хорошо я знал, что не выдам его убежище, если только они не начнут меня пытать (но, кажется, они об этом не помышляли). Все это было для меня стопроцентно ясно, не вызывало сомнений и, в общем, нисколько не интересовало. И все же мне хотелось понять, почему я веду себя так, а не иначе. Почему я предпочитаю сдохнуть, но не выдать Рамона Гриса? Почему? Ведь я больше не любил Рамона. Моя дружба к нему умерла на исходе ночи: тогда же, когда умерли моя любовь к Конче и мое желание жить. Конечно, я всегда его уважал: это был человек стойкий. И все-таки вовсе не потому я согласился умереть вместо него: его жизнь стоила мне дороже моей – любая жизнь не стоит ни гроша. Когда человека толкают к стене и палят по нему, пока он не издохнет: кто бы это ни был – я, или Рамон Грис, или кто-то третий – все в принципе равноценно. Я прекрасно знал, что он был нужнее Испании, но теперь мне было начхать и на Испанию, и на анархизм: ничто больше не имело значения. И все-таки я здесь, я могу спасти свою шкуру, выдав Рамона Гриса, но я этого не делаю. Мое ослиное упрямство казалось мне почти забавным. Я подумал: «Ну можно ли быть таким болваном!» Я даже как-то развеселился. За мной снова пришли и повели в ту же комнату. У ног моих прошмыгнула крыса, это меня тоже позабавило. Я обернулся к одному из фалангистов:
– Гляди, крыса.
Конвойный не ответил. Он был мрачен, он все принимал всерьез. Мной овладело желание расхохотаться, но я сдержался: побоялся, что если начну, то не смогу остановиться. Фалангист был усат. Я сказал ему:
– Сбрей усы, кретин.
Мне показалось смешным, что человек допускает еще при жизни, чтоб лицо его обрастало шерстью. Он лениво дал мне пинка, я замолчал.
– Ну что, – спросил толстяк, – ты надумал?
Я взглянул на него с любопытством, как смотрят на редкостное насекомое, и ответил:
– Да, я знаю, где он. Он прячется на кладбище. В склепе или в домике сторожа.
Мне захотелось напоследок разыграть их. Я хотел поглядеть, как они вскочат, нацепят свои портупеи и станут с деловым видом сыпать приказами. Они действительно повскакали с мест.
– Пошли. Молес, возьмите пятнадцать человек у лейтенанта Лопеса.
– Если это правда, – сказал коротышка, – я сдержу свое слово. Но если ты нас водишь за нос, тебе не поздоровится.
Они с грохотом выскочили из комнаты, а я остался мирно сидеть под охраной фалангистов. Время от времени я ухмылялся: забавно было представлять, как они мчатся во весь опор к кладбищу. Мне казалось, что я поступил очень остроумно. Я живо представлял, как они распахивают двери склепов, приподымают могильные камни. Я видел все это сторонним взглядом: упрямый арестант, вздумавший корчить из себя героя, солидные усатые фалангисты и люди в военной форме, шныряющие среди могил, – поистине уморительная картина. Через полчаса толстяк вернулся. Я подумал: сейчас он прикажет меня расстрелять. Остальные, очевидно, остались на кладбище. Но офицер внимательно поглядел на меня. Он вовсе не выглядел одураченным.
– Отведите его на главный двор, к остальным, – сказал он. – После окончания боевых действий его судьбу решит трибунал.
Я подумал, что не так его понял. Я спросил:
– Как, разве меня не расстреляют?
– Во всяком случае, не сейчас. И потом, это уже не по моей части.
Я все еще не понимал.
– Но почему?
Он молча передернул плечами, солдаты увели меня. На общем дворе толпилось около сотни арестованных: старики, дети. В полном недоумении я принялся бродить вокруг центральной клумбы. В полдень нас повели в столовую. Двое или трое пытались со мной заговорить. Очевидно, мы были знакомы, но я им не отвечал: я больше не понимал, где я и что. К вечеру во двор втолкнули дюжину новых арестантов. Среди них я узнал булочника Гарсиа. Он крикнул мне:
– А ты везучий! Вот уж не думал увидеть тебя живым.
– Они приговорили меня к расстрелу, – отозвался я, – а потом передумали. Не могу понять почему.
– Меня взяли в два часа, – сказал Гарсиа.
– За что?
Гарсиа политикой не занимался.
– Понятия не имею, – ответил Гарсиа, – они хватают каждого, кто думает не так, как они.
Он понизил голос:
– Грис попался.
Я вздрогнул.
– Когда?
– Сегодня утром. Он свалял дурака. В среду вдрызг разругался с братцем и ушел от него. Желающих его приютить было хоть отбавляй, но он никого не захотел ставить под удар. Он сказал мне: «Я бы спрятался у Иббиеты, но раз его арестовали, спрячусь на кладбище».
– На кладбище?
– Да. Нелепая затея. А сегодня утром они туда нагрянули. Накрыли его в домике сторожа. Грис отстреливался, и они его прихлопнули.
– На кладбище!
Перед глазами у меня все поплыло, я рухнул на землю. Я хохотал так неудержимо, что из глаз хлынули слезы.
Комната
I
Мадам Дарбеда держала в пальцах рахат-лукум. Она осторожно приблизила его к губам и задержала дыхание, опасаясь, что взлетит легкая сахарная пудра. Она подумала: «Этот рахат-лукум из лепестков розы». Потом резко прокусила стекловидную плоть, запах гнили тотчас заполнил ее рот. «Любопытно, как болезнь утончает ощущения». Мадам Дарбеда вспомнила мечети и слащавых, покорных людей Востока (она провела в Алжире свое свадебное путешествие), и на ее бледных губах возникло подобие улыбки: рахат-лукум был тоже сладок и покорен.
Пришлось несколько раз провести ладонью по страницам книги, так как, несмотря на предосторожность, они покрылись тонким слоем белой сахарной пыли. Под руками мадам Дарбеда на гладкой бумаге похрустывали маленькие крупицы сахара. «Это напоминает мне Аркашон, когда я читала на пляже…» Лето 1907 года она провела на берегу моря. Она носила тогда широкополую соломенную шляпу с зеленой лентой; мадам Дарбеда располагалась около дамбы с романом Жип или Колетт. Ветер швырял на ее колени горсти песка, и время от времени она трясла книгу, держа ее за углы. То же самое ощущение: только песчинки были совсем сухие, а маленькие пылинки сахара немного прилипали к пальцам. Она вновь представила полоску жемчужно-серого неба над темным морем. Ева тогда еще не родилась. Мадам Дарбеда была доверху заполнена воспоминаниями и ощущала себя драгоценной, как сандаловая шкатулка. Внезапно в ее памяти всплыло название романа: он назывался «Маленькая женщина» и был занятным. Но с тех пор, как непонятный недуг приковал ее к этой комнате, мадам Дарбеда предпочитала мемуары и исторические опусы. Ей хотелось, чтобы благодаря своим страданиям, серьезному чтению, сосредоточенным воспоминаниям и прихотливым ассоциациям она вызревала как прекрасный оранжерейный плод.
Она подумала немного раздраженно, что скоро в дверь постучит ее муж. В остальные дни недели он приходил только к вечеру, молча целовал ее в лоб и, усевшись напротив нее в глубоком кресле, читал «Тан». Но четверг был «днем» месье Дарбеда. В течение часа он должен был быть у дочери – обычно с трех до четырех. Перед этим он заходил к жене, и оба они с горечью говорили о зяте. Эти разговоры по четвергам, известные заранее до мельчайших деталей, изнуряли мадам Дарбеда. Месье Дарбеда переполнял спокойную комнату своим присутствием. Он непрерывно шагал взад-вперед, делал резкие повороты. Его повадки ранили мадам Дарбеда, как звон разбитого стекла. В этот же четверг было еще хуже, чем обычно: при одной мысли, что сегодня ей придется повторить мужу признание Евы и увидеть, как его большое устрашающее тело подпрыгнет от ярости, ей становилось дурно. Ее прошибло потом. Она взяла с блюдца рахат-лукум, нерешительно рассматривала его несколько мгновений, затем грустно положила назад: ей не хотелось, чтобы муж видел, как она лакомится этой сластью.
Услышав его стук, она вздрогнула.
– Входи, – сказала она слабым голосом.
Месье Дарбеда вошел на цыпочках.
– Сейчас пойду к Еве, – сказал он, как обычно.