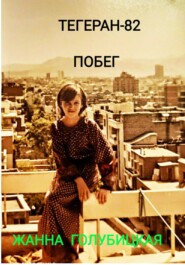По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сделана в СССР. Приключения советской школьницы в исламском Тегеране
Автор
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тут бабушка, видно, сказала, что нечего было и сообщать про ледянки, раз лень было их достать, потому что мама стала оправдываться:
– Понимаешь, я сначала вспомнила, что они есть, а потом сообразила, как это опасно! Ты же помнишь нашу дворовую горку, с нее прямо на проезжую часть дети выкатываются!
После этого мама довольно долго молчала с виноватым видом, слушая трубку. Я догадалась, что бабушка ругает ее, а не меня. Наконец, мама вздохнула:
– Ну вот и ты туда же, надо было объяснить по-человечески! Не понимают они по-человечески, оба! Объяснять бесполезно, можно только молча делать. Это же Каракумы, генетика, кочевники, упрямство, наметил дорогу и прет по ней, что бы ни случилось. А чуть расслабишься, и тебя в ишака превратят!
Продолжение разговора я подслушивать не стала. Но с тех пор слово «Каракумы» стало для меня комплиментом, обращенным к человеку, который точно знает, куда идет, и сбить с пути его невозможно. Потому что он не позволяет превратить себя в безответного ишака, на чувства, мысли и планы которого погонщику глубоко плевать, лишь бы шел вперед и тащил поклажу.
А мама приобрела в моих глазах статус «бога», которого можно умолять и ходить на поклон хоть каждый день, но это никак не гарантирует его милости. Соответственно, и сам Бог в плане исполнительности и обязательности казался мне похожим на мою маму. А если кто-то решает взять на себя функции «бога» и сам лезет на антресоли, как мой папа, то это непременно заканчивается скандалом.
Зато с того случая с ледянками я поняла, что моя боязнь прямых просьб меня же в итоге ставит в глупое положение, и стала с этим страхом бороться, заставляя себя не только просить, но и требовать на свою просьбу внятного ответа. Если ответом было твердое «нет», я быстро примирялась с отказом и успокаивалась. Очевидно, больше всего меня пугал не сам отказ, а отсутствие определенности, когда кто-то намеренно держит тебя в подвешенном состоянии.
Маму в образе «не обязательного бога» я тоже на удивление легко приняла и просто старалась с ней не связываться, адресуя все свои просьбы, сомнения и вопросы папе. А если маме все же случалось вклиниться, пообещать и подвести, я больше не «молчала и кивала», как она наябедничала на меня бабушке, а отмечала ее поступок бурным протестом. В ответ она всегда уводила разговор от сути вопроса в сторону общих нотаций:
– Ты не умеешь быть благодарной! Если бы не я, тебя бы вообще не было на свете! А ты еще из-за каких-то пустяков повышаешь на мать голос!
Формально она вроде бы была права: нет на свете таких вещей, из-за которых можно было бы всерьез гневаться на родную мать. Но во всех ситуациях, где речь шла об унижении моей маленькой личности, даже если я сама до конца не понимала этого, противный свинцовый «светкин» комок поднимался во мне откуда-то из-под ребер, издевательски сигнализируя, что меня снова то ли обманывают, то ли я сама дура.
Мой страх перед необходимостью кого-то о чем-то просить постепенно прошел, хотя процесс по-прежнему был мне неприятен. Я заставляла себя тренироваться и регулярно что-нибудь клянчить, чтобы изжить топорную неловкость. Я же видела, как грациозно просят о «маленьком одолжении» красивые героини кино, и в ответ герои бросают к их ногам целый мир.
Но моя неловкость никуда не девалась, даже если просить приходилось далеко не о целом мире, а о сущем пустяке. Легко было только с людьми, про которых я точно знала, что тянуть с ответом и издеваться они не станут. Если просьба выполнима и не очень их затруднит, они тут же согласятся, не заставляя долго себя упрашивать. А если не могут помочь, так сразу прямо скажут об этом, не вселяя напрасных надежд. Но таким человеком, пожалуй, был только папа. Он всегда сразу говорил либо «да», либо «нет», не вынуждая брать себя измором. А как только выполнял просьбу или отказывал в ней, тут же закрывал тему и, в отличие от мамы, никогда не напоминал о том, что я у него что-то «вымогла» и теперь должна быть «бесконечно за это благодарна». И уж тем более не вспоминал про то, что я «просила-просила, да не так и не выпросила».
«Ути-пути, моя дочечка!»
Иногда я размышляла, что может же моя мама быть не занудной, когда хочет!
Одно то, как она решилась уехать вслед за папой в Ашхабад, чего стоит! Хотя познакомились они у метро Парк Культуры-радиальная, возле ИнЯза, и мама и не помышляла, что это знакомство может закончиться для нее переездом в столицу Туркмении. Она от российской-то столицы далеко не отъезжала. Но в папу она влюбилась и вышла за него замуж. И даже то, что все ее близкие, один за другим, попадали по этому поводу с сердечными приступами, ее не остановило.
А папу после диплома распределили в столицу его малой родины, чем он гордился. Ведь сам он родился даже не в столице, а в Чарджоу, втором по величине городе Туркменской ССР. И папа категорически не хотел использовать женитьбу на москвичке как повод остаться в Москве. Хотя мамин папа, профессор института Сербского, предлагал в этом свою помощь. У дедушки с бабушкой была большая квартира в соседнем с институтом Сербского переулке, все бы поместились, но папа хотел строить карьеру самостоятельно.
Маме было 22, и она в жизни не уезжала севернее Ленинграда и южнее Баку. Да и на Баку она никогда бы не решилась, если бы Милочка, бакинка, с которой мама в 13-летнем возрасте познакомилась в санатории под Кисловодском, где обе отдыхали с мамами. С красавицей Милой они дружили всю жизнь, а все те, у кого есть друзья в Баку, знают, что приглашают бакинцы так, что отказаться невозможно. А принимают так, что еще невозможнее не приехать еще раз.
И, получив диплом Московского финансового института и взяв у тети Моти рецепт гречневой каши, мама поехала за любимым в Ашхабад. Устроилась по специальности в ашхабадский Госплан и сожгла несколько кастрюль, осваивая варку гречки. За полтора года в Ашхабаде – с 1968-го по начало 1970-го – родители пережили несколько землетрясений. Это были отзвуки сокрушительного землетрясения в Ташкенте, волной доходившие до туркменской столицы.
Именно там, в Ашхабаде, в крохотной съёмной комнатке, на узкой кровати с панцирным матрасом, под одним на двоих серым «солдатским» одеялом они зачали меня.
На мое счастье, в начале 1970-го папа получил повышение и перевод в Москву, благодаря чему 15-го октября 1970-го мне удалось родиться не просто в столице СССР, но и в самом ее сердце – на Калининском проспекте. Когда я изъявила желание увидеть свет, маму срочно отвезли в ближайший к их дому роддом имени Грауэрмана. После возвращения из Ашхабада родители жили у бабушки с дедушкой в арбатских переулках, но папа делал все возможное, чтобы ему выделили собственную квартиру. Но в собственную «трешку» в новостройке у метро Сокольники мы переехали только, когда мне исполнилось четыре. Из бабушкиной квартиры мама взяла с собой только мою старенькую няню тетю Мотю, потому что хотела работать, а не сидеть со мной.
Тетю Мотю моя бабушка нашла на вокзале, незадолго до начала войны. В возрасте 27 лет моя бабушка уже была замужем и растила дядю Феликса, старшего маминого брата, а тете Моте тогда не было и 18-ти. Круглая сирота, она прибыла в столицу из глухой деревеньки под Можайском, чтобы поискать работу. Но едва сойдя с поезда, обнаружила, что в пути у неё вытащили кошелёк. Бабушка забрала её к себе домой, сначала просто чтобы накормить и отогреть. А когда стало понятно, что работу Моте найти будет очень трудно, оформила ее через профсоюз своей домработницей. Тогда так было положено, чтобы была запись в трудовой книжке и начислялась пенсия. Тетя Мотя была очень маленькая и немного горбатенькая – последствия родовой травмы в руках темной деревенской повитухи. Поэтому на фабрики и заводы, куда обычно устраивались «лимитчицы», её не брали. Вот и пришлось ей пойти «в люди», как смеялись мои дедушка с бабушкой.
Матюша, как ласково называла её бабушка, в благодарность вкусно им готовила, чисто убирала и обожала их детей. Тетя Мотя прошла с бабушкиной семьей все тяготы военных лет, ездила в эвакуацию в Казань, вырастила двоих маминых старших братьев, потом маму, а потом еще и пятерых бабушкиных внуков – сына и дочь маминого старшего брата и трех дочек среднего. А тут как раз и я подоспела.
Говорили, что тетя Мотя сразу полюбила меня так, как не любили меня все мои родственники вместе взятые. В первые месяцы жизни я очень громко кричала и никому не нравилась, кроме тети Моти. Думаю, что мне тоже, кроме нее, никто не нравился. Во всяком случае, успокаивалась я только с ней. По словам мамы, папа начал мною интересоваться только когда я заговорила. Возможно, именно поэтому я заговорила, когда мне еще не было и года. Очевидно, мне многое хотелось им высказать.
Когда позже маме казалось, что мы с папой объединились против нее, она говорила мне:
– Это сейчас он с тобой хихикает, а когда тебе было 3 месяца, хотел выкинуть тебя в окно. Ты мешала ему спать.
Папа этого эпизода не отрицал, но в ответ делился своими воспоминаниями.
Когда мне было месяцев восемь, он вернулся домой после месячной командировки, Все домашние заверещали: «Вот наш папочка! Сейчас он поцелует дочечку! Ты узнала папочку?»
«Дочечка» мрачно сидела на горшке, который почему-то стоял на бабушкином круглом обеденном столе с плюшевой скатертью. Наверное, это для того, чтобы маме ко мне не наклоняться. По словам папы, я молча дождалась пока он с сюсюканьем «Ути-пути, моя дочечка!» приблизит ко мне свое лицо, размахнулась и влепила ему пощечину. После чего снова погрузилась в молчаливые раздумья. Все домочадцы обомлели, и только дедушка прокомментировал: «А нечего было на месяц уезжать!» Все же не зря дед был психиатр.
В свои девять лет в ответ на подобные родительские воспоминания я обычно предполагала, что детство у меня было действительно тяжелое, и кричала я не случайно, а звала на помощь. Но спасала от злодеев меня только тетя Мотя.
Тетя Мотя и впрямь стала родным человеком всей большой бабушкиной семье. Я никогда не называла её «няней», разве только поясняя любопытным, почему у меня три бабушки – одна на Арбате, другая в Чарджоу, а третья всегда при мне. В конце 1974-го тетя Мотя бросила привычное арбатское хозяйство и поехала за нами в сокольническую новостройку – так же самоотверженно, как мама за папой в Ашхабад.
Эту историю мне не раз рассказывали и мама, и папа, и вместе, и по отдельности. Суть ее у обоих была одинаковая, а вот выводы разные. Мама в конце всегда добавляла: «У нас все получилось, папа смог получить квартиру и командировку за рубеж, благодаря моему терпению и поддержке!» Папа не возражал, но свой рассказ завершал словами: «Но самое главное, что у нас есть – это наша дочь, и за это спасибо нашей любимой мамочке!»
Наверное, правы были оба. Но папин вариант нравился мне больше.
Родительская лошадь
В нашем 1 «Б» учились близняшки Оля и Лена, артистические дети. Их мама танцевала в ансамбле «Березка», а дедушка играл в каком-то народном ансамбле. Близняшки были очень активными и тоже любили устраивать самодеятельность. Но не камерную, на дому, как моя лучшая подружка Катька – тоже «закулисный» ребенок, только не танцевальный, а театральный – а общественно-полезную, в актовом зале.
Оля и Лена были очень активными: близко к сердцу принимали все дела класса, рвались к общественной работе и имели подходящие для этого громкие голоса.
Там, где были близняшки, всегда было много шума и эпицентр чего-нибудь общественно-значимого.
К концерту 7 ноября наш класс готовил песню «Тачанка-ростовчанка». Пение сопровождалась инсценировкой, и нас поделили на медсестер, которые поедут в тачанке, и кавалеристов, которые поскачут на лошадях. Я почему-то попала в кавалеристы.
Репетировали мы без реквизита, но ко дню концерта в актовом зале школы медсестрам велели принести белые халаты и повязки на голову, а кавалеристам – лошадей. Разумеется, не настоящих, а на палках, такие продавались в Детском мире.
– Но лучше сделать лошадь своими руками, – добавила наша первая учительница Нина Александровна.
Про лошадь мои родители узнали вечером накануне концерта. Я должна была сообщить им об этом намного раньше, но забыла. И вспомнила, только когда Нина Александровна записала время концерта каждому из нас в дневник, чтобы родители тоже пришли.
Меня коротко отругали за наплевательское отношение к общественно-важным мероприятиям и уложили спать. Несколько раз я просыпалась от шума. Мои родители чем-то шебуршали на кухне, и то переругивались, то ржали как лошади.
Утром стало понятно, что они мастерили мне коня.
Он уже ждал всадника у входной двери.
Папа не мог даже смотреть на моего скакуна, у него сразу начиналась истерика.
На палке от швабры гордо возвышалась лошадиная голова, любовно приклеенная к ней моими родителями, а до того вырезанная ими из картона. Раскрасили они ее тоже сами – моими акварельными красками. Слева моя лошадь была серо-буро-коричневой с зеленым глазом, а справа – черной с лиловым. Глаза у нее были на разном уровне, поэтому разница в цвете не так бросалась в глаза. Уши моей лошади вырезать забыли, зато усы у нее были как у Буденного, а грива как у Аллы Пугачевой – из старого бабушкиного парика.
– Ну как? – тихо спросила моя мама с неожиданной для нее робостью.
Я посмотрела на своего косого скакуна. А потом на мамины синие круги под глазами, появившиеся от того, что она всю ночь его мастерила. И мне вдруг стало жалко всех троих – и лошадь, и маму, и даже папу, несмотря на то, что он не мог сдержать смеха при виде моего коня. Но ведь он тоже корпел над ним ночь напролет, пока я мирно спала. А теперь они с мамой оба пойдут на работу, а потом на мой концерт, так и не сомкнув глаз. А что они не успели в Детский мир, так это я сама виновата.
– Отличная лошадь! – твердо заявила я и погладила ее по бабушкиному парику.
Родители облегченно вздохнули, папа взял лошадь подмышку и пошел провожать меня в школу.
Когда я вошла в класс со своим скакуном, там повисла пауза Станиславского. Потом в гробовой тишине один мальчик заплакал. Учительница испугалась, пока не поняла, что он рыдает от смеха. Через минуту рыдали все.