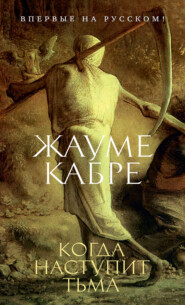По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я исповедуюсь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Булхани!
– Я с псами не разговариваю!
– Булхани!
Тон, которым было произнесено имя, заставил его обернуться с недовольной гримасой. Булхани из Моэны обладал внушительным брюхом, на котором – поживи он подольше да поешь получше – стало бы очень удобно складывать руки.
– Какого дьявола тебе нужно?
– Где твоя куртка?
– Тебе-то что до моей куртки?
– Что ж ты ее не надел? Ну-ка, покажи мне ее!
– Поди прочь! Ты думаешь, раз сейчас для Моэны плохие времена, мы должны плясать под твою дуду? А? – Его глаза потемнели от злобы. – И не подумаю тебе ничего показывать! Катись к чертовой матери!
Иаким, четвертый сын Муреды, ослепленный холодной яростью, вытащил короткий нож, который всегда носил за поясом, и воткнул его в брюхо Булхани Брочи, толстяка из Моэны, словно в кленовый ствол, с которого нужно снять кору. Булхани открыл рот и выпучил глаза – скорее от удивления, чем от боли: как это какое-то ничтожество из Пардака посмело тронуть его. Когда Иаким Муреда выдернул нож, раздался отвратительный хлюпающий звук. Лезвие было красно от крови. Булхани осел, будто из него выпустили воздух.
Иаким огляделся: на улице никого. Стараясь сохранять спокойный вид, он почти бегом бросился в сторону Пардака. Вот за спиной остался последний дом Моэны. Муреда заметил краем глаза, что горбунья с мельницы, держа охапку мокрого белья, смотрит на него, открыв рот… Может, она все видела. Вместо того чтобы прирезать и ее, он только прибавил шагу. Для него – лучшего знатока поющего древа, всего-то двадцати лет от роду, – жизнь только что разлетелась в куски.
Дома все поняли мгновенно и тут же послали в Сан-Мартино и Сирор людей, чтобы те в красках рассказали, как Булхани, понукаемый ненавистью и злобой, поджег лес; да только обитателям Моэны до правосудия не было дела, они желали поймать – немедленно – злодея Иакима Муреду.
– Сынок, – сказал старый Муреда, глядя еще более печально, чем обычно, – ты должен бежать отсюда.
И протянул ему мешочек, в котором лежала половина всего золота, скопленного семьей за тридцать лет работы в Паневеджио. Никто из сыновей не возразил, видя это. Глава семьи торжественно продолжил: хоть ты и лучший знаток поющей древесины и настоящий мастер, Иаким, сын сердца моего, четвертый отпрыск этого несчастного рода, твоя жизнь стоит много больше драгоценного дерева, которое мы никогда уже не сможем продавать. Только покинув эти места, ты избежишь разорения, каковое постигнет нас теперь, когда Булхани из Моэны оставил нас без леса.
– Отец, я…
– Давай беги, не мешкай! Беги через Велшнофен, потому что я уверен: в Сироре тебя будут искать. Мы пустим слух, что ты прячешься в Сироре или Тонадике. Оставаться в долине очень опасно. Ты должен бежать далеко отсюда, как можно дальше от Пардака. Беги, сынок, и да хранит тебя Господь!
– Но, отец, я не хочу уезжать. Я хочу работать в лесу.
– Леса больше нет. Что ты будешь здесь делать, дитя мое?
– Не знаю… Но если я покину долину, то умру!
– А если ты не покинешь долину сегодня же ночью, я сам тебя убью! Ты понял меня?
– Отец…
– Никому из Моэны я не позволю поднять руку на моего сына!
Иаким Муреда из Пардака попрощался с отцом и поцеловал одного за другим всех братьев и сестер: Агно, Йенна, Макса с их женами; Гермеса, Йозефа, Теодора и Микура; Ильзу, Эрику с их мужьями; Катарину, Матильду, Гретхен и Беттину. Затем в полной тишине сказал: «Прощайте!» – и уже в дверях услышал голос младшей, Беттины: «Иаким!» Он обернулся и увидел, что девочка протягивает ему медальон с Пресвятой Девой Марией Пардакской – образок, который мать дала ей перед смертью. Иаким молча обвел взглядом братьев, посмотрел на отца. Тот согласно кивнул. Тогда беглец подошел к младшей сестре, взял медальон и сказал: Беттина, сестренка, я буду носить его как драгоценность до самой смерти. Он не знал тогда, что говорит истинную правду. Беттина прикоснулась к его щекам ладошками, но не плакала.
Иаким вышел из дому, ничего не видя перед собой, пробормотал короткую молитву над могилой матери и растворился в снежной ночи, чтобы переменить жизнь, историю и воспоминания.
– У вас только это есть?
– У нас магазин антиквариата, – ответила Сесилия с тем ледяным выражением лица, которое вгоняло мужчин в краску. И прибавила, не скрывая иронии: – Отчего бы вам не наведаться в лавку музыкальных инструментов?
Мне нравится, когда Сесилия сердится. От этого она становится еще красивее. Даже красивее, чем мама. Чем мама, какой она была тогда.
С моего места виден кабинет сеньора Беренгера. Я услышал, как Сесилия провожает разочарованного клиента, так и не снявшего шляпу. Как только звякнул колокольчик и раздалось «Всего хорошего!» Сесилии, сеньор Беренгер поднял голову и подмигнул мне:
– Адриа!
– А?
– Когда за тобой придут? – говорит он громче.
Я пожимаю плечами. Я никогда толком не знал, где и когда мне следует быть. Родители не хотели, чтобы я оставался дома один, и отводили в магазин, если оба уходили по делам. Меня это устраивало: мне нравилось проводить время, рассматривая самые невероятные предметы, прожившие жизнь, а теперь ждали случая начать новую в новом месте. Я воображал себе их в разных домах – это было увлекательное занятие.
Заканчивалось все всегда одинаково: за мной приходила Лола Маленькая. Она вечно торопилась, потому что ей нужно было готовить ужин, а потом еще мыть посуду. И я пожал плечами в ответ на вопрос сеньора Беренгера: когда за мной придут.
– Иди сюда, – сказал он, доставая лист белой бумаги. – Сядь за тот тюдоровский стол и порисуй немножко.
Мне никогда не нравилось рисовать, потому что я не умею, совсем не умею. Оттого меня всегда восхищало твое умение, оно кажется мне чудесным. Сеньор Беренгер говорил мне «порисуй немножко», поскольку ему жаль было видеть, как я бездельничаю, хотя это было не так. Я не бездельничал, я – размышлял. Но с сеньором Беренгером спорить бесполезно. Так что, сидя за тюдоровским столом, я соображал, как бы сделать так, чтобы он оставил меня в покое. Вынул Черного Орла из кармана и попробовал нарисовать его. Бедняга Черный Орел, если б он увидел свой портрет… Кстати, Черный Орел все еще не нашел времени познакомиться с шерифом Карсоном, так как я только сегодня утром выменял его у Рамона Колля на губную гармошку Вейса. Если отец узнает об этом, он точно меня убьет.
Сеньор Беренгер не был похож на других; от его смеха мне становилось немного не по себе, а еще он обращался с Сесилией так, словно она никчемная служанка, и этого я ему так и не простил. Однако этот человек много знал о моем отце, который для меня был великой тайной.
2
«Санта-Мария» прибыла в Остию туманным утром второго четверга сентября. Плавание из Барселоны было значительно хуже, чем любое из путешествий Энея, предпринятых им в поисках своей судьбы и вечной славы. На борту «Санта-Марии» Нептун ему не благоволил: то и дело приходилось свешиваться над водой и кормить рыб, так что к концу путешествия цвет лица у него изменился с яркого и здорового, какой присущ крестьянам из долины Плана, на бледный, словно у загробного видения.
Монсеньор Жузеп Торрас-и?Бажес лично принял решение, что, учитывая превосходные качества этого семинариста – ум, старательность в учебе, благочестие, душевную чистоту и искреннюю веру, которыми, несмотря на юный еще возраст, обладает этот семинарист, – сей прекрасный цветок нуждается в более пышном цветнике, чем скромный огород семинарии в Вике, где он завянет и понапрасну растратит те сокровенные дары, которыми наделил его Господь.
– Но я не хочу ехать в Рим, монсеньор! Я хочу посвятить себя учебе…
– Именно по этой причине я и отправляю тебя в Рим, возлюбленный сын мой. Я хорошо знаю нашу семинарию и то, что такой ум, как твой, лишь понапрасну тратит здесь время.
– Но монсеньор…
– Господь создал тебя для высоких свершений. Твои преподаватели просто требуют от меня такого решения, – сказал он, несколько театральным жестом поднимая вверх бумагу, которую держал в руке.
«Рожденный в усадьбе Жес близ города Тона, сын достойных Андреу и Розалии; уже в возрасте шести лет обнаружил стремление к церковному служению и начал посещать вводный курс латыни под руководством моссена[6 - Моссен – обращение к священнику, принятое у каталонцев.] Жасинта Гарригоса. Был столь успешен в учении, что, осваивая курс риторики, написал сочинение Oratio Latina[7 - «Латинское красноречие» (лат.).] и был допущен к его защите, чем – как знает монсеньор по собственному опыту, ибо мы имели честь учить Вас в этих стенах, – учителя поощряют лишь наиболее достойных учеников, добившихся значительных успехов в изучении сего наипрекраснейшего языка. Сие событие произошло, когда юноше исполнилось только одиннадцать лет, что свидетельствует о его исключительном развитии. Таким образом, все получили возможность услышать блестящую ораторскую речь Феликса Ардевола, произнесенную на языке Вергилия в присутствии весьма впечатленной публики, равно как его родителей и брата. Дабы почтенная аудитория могла как следует видеть и слышать маленького оратора, ему пришлось встать на специальную подставку. Так Феликс Ардевол-и?Гитерес начал свое триумфальное восхождение в области философии, теологии, математики, чтобы сравняться с такими просветленными учениками этой семинарии, как отцы Жауме Балмес-и?Урпиа, Антони Мария Кларет-и?Клара, Жасинт Вердагер-и?Сантало, Жауме Коллеу-и?Бансельс[8 - Известные каталонские философы и теологи XIX в., деятели т. н. Каталонского Возрождения.], профессор Андреу Дуран и Вы сами, Ваше преосвященство, коего мы удостоились в качестве епископа нашего возлюбленного диоцеза. Мы желали бы выразить благодарность всем славным предшественникам. Ибо сказал Господь наш: „Laudemus viros gloriosos et parentes nostros in generatione sua“ (Eccli., 44, 1)[9 - «Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода» (лат.). Цит. по Вульгате.]. Суммируя все вышеизложенное, мы от всей души просим Вас направить в Папский Григорианский университет студента Феликса Ардевола-и?Гитереса, дабы он там изучал теологию».
– У тебя нет выбора, сын мой!
Феликс Ардевол не осмелился признаться, что ненавидит корабли, поскольку родился и всегда жил на твердой земле, очень далеко от моря. И теперь, из-за того что он не смог быть откровенным с епископом, ему пришлось предпринять это невыносимое путешествие. На задворках порта Остии, заваленных какими-то полусгнившими ящиками и кишащими крысами, он исторг из себя свою беспомощность и почти все воспоминания о прошлом. А за следующие несколько минут – пока пытался разогнуться и восстановить дыхание, пока отирал рот платком – он решительно облекся в сутану странствий и обратил взор к открывавшимся перед ним блестящим перспективам. Подобно Энею, когда тот прибыл в Рим.
– Это лучшая комната в общежитии.
Феликс Ардевол остановился и обернулся, удивленный. В дверном проеме, с приветливой улыбкой, стоял невысокий полный студент, истекающий по?том в шерстяном доминиканском хабите.
– Феликс Морлен, из Льежа, – представился незнакомец, делая шаг вперед.
– Феликс Ардевол. Из Вика.
– Я с псами не разговариваю!
– Булхани!
Тон, которым было произнесено имя, заставил его обернуться с недовольной гримасой. Булхани из Моэны обладал внушительным брюхом, на котором – поживи он подольше да поешь получше – стало бы очень удобно складывать руки.
– Какого дьявола тебе нужно?
– Где твоя куртка?
– Тебе-то что до моей куртки?
– Что ж ты ее не надел? Ну-ка, покажи мне ее!
– Поди прочь! Ты думаешь, раз сейчас для Моэны плохие времена, мы должны плясать под твою дуду? А? – Его глаза потемнели от злобы. – И не подумаю тебе ничего показывать! Катись к чертовой матери!
Иаким, четвертый сын Муреды, ослепленный холодной яростью, вытащил короткий нож, который всегда носил за поясом, и воткнул его в брюхо Булхани Брочи, толстяка из Моэны, словно в кленовый ствол, с которого нужно снять кору. Булхани открыл рот и выпучил глаза – скорее от удивления, чем от боли: как это какое-то ничтожество из Пардака посмело тронуть его. Когда Иаким Муреда выдернул нож, раздался отвратительный хлюпающий звук. Лезвие было красно от крови. Булхани осел, будто из него выпустили воздух.
Иаким огляделся: на улице никого. Стараясь сохранять спокойный вид, он почти бегом бросился в сторону Пардака. Вот за спиной остался последний дом Моэны. Муреда заметил краем глаза, что горбунья с мельницы, держа охапку мокрого белья, смотрит на него, открыв рот… Может, она все видела. Вместо того чтобы прирезать и ее, он только прибавил шагу. Для него – лучшего знатока поющего древа, всего-то двадцати лет от роду, – жизнь только что разлетелась в куски.
Дома все поняли мгновенно и тут же послали в Сан-Мартино и Сирор людей, чтобы те в красках рассказали, как Булхани, понукаемый ненавистью и злобой, поджег лес; да только обитателям Моэны до правосудия не было дела, они желали поймать – немедленно – злодея Иакима Муреду.
– Сынок, – сказал старый Муреда, глядя еще более печально, чем обычно, – ты должен бежать отсюда.
И протянул ему мешочек, в котором лежала половина всего золота, скопленного семьей за тридцать лет работы в Паневеджио. Никто из сыновей не возразил, видя это. Глава семьи торжественно продолжил: хоть ты и лучший знаток поющей древесины и настоящий мастер, Иаким, сын сердца моего, четвертый отпрыск этого несчастного рода, твоя жизнь стоит много больше драгоценного дерева, которое мы никогда уже не сможем продавать. Только покинув эти места, ты избежишь разорения, каковое постигнет нас теперь, когда Булхани из Моэны оставил нас без леса.
– Отец, я…
– Давай беги, не мешкай! Беги через Велшнофен, потому что я уверен: в Сироре тебя будут искать. Мы пустим слух, что ты прячешься в Сироре или Тонадике. Оставаться в долине очень опасно. Ты должен бежать далеко отсюда, как можно дальше от Пардака. Беги, сынок, и да хранит тебя Господь!
– Но, отец, я не хочу уезжать. Я хочу работать в лесу.
– Леса больше нет. Что ты будешь здесь делать, дитя мое?
– Не знаю… Но если я покину долину, то умру!
– А если ты не покинешь долину сегодня же ночью, я сам тебя убью! Ты понял меня?
– Отец…
– Никому из Моэны я не позволю поднять руку на моего сына!
Иаким Муреда из Пардака попрощался с отцом и поцеловал одного за другим всех братьев и сестер: Агно, Йенна, Макса с их женами; Гермеса, Йозефа, Теодора и Микура; Ильзу, Эрику с их мужьями; Катарину, Матильду, Гретхен и Беттину. Затем в полной тишине сказал: «Прощайте!» – и уже в дверях услышал голос младшей, Беттины: «Иаким!» Он обернулся и увидел, что девочка протягивает ему медальон с Пресвятой Девой Марией Пардакской – образок, который мать дала ей перед смертью. Иаким молча обвел взглядом братьев, посмотрел на отца. Тот согласно кивнул. Тогда беглец подошел к младшей сестре, взял медальон и сказал: Беттина, сестренка, я буду носить его как драгоценность до самой смерти. Он не знал тогда, что говорит истинную правду. Беттина прикоснулась к его щекам ладошками, но не плакала.
Иаким вышел из дому, ничего не видя перед собой, пробормотал короткую молитву над могилой матери и растворился в снежной ночи, чтобы переменить жизнь, историю и воспоминания.
– У вас только это есть?
– У нас магазин антиквариата, – ответила Сесилия с тем ледяным выражением лица, которое вгоняло мужчин в краску. И прибавила, не скрывая иронии: – Отчего бы вам не наведаться в лавку музыкальных инструментов?
Мне нравится, когда Сесилия сердится. От этого она становится еще красивее. Даже красивее, чем мама. Чем мама, какой она была тогда.
С моего места виден кабинет сеньора Беренгера. Я услышал, как Сесилия провожает разочарованного клиента, так и не снявшего шляпу. Как только звякнул колокольчик и раздалось «Всего хорошего!» Сесилии, сеньор Беренгер поднял голову и подмигнул мне:
– Адриа!
– А?
– Когда за тобой придут? – говорит он громче.
Я пожимаю плечами. Я никогда толком не знал, где и когда мне следует быть. Родители не хотели, чтобы я оставался дома один, и отводили в магазин, если оба уходили по делам. Меня это устраивало: мне нравилось проводить время, рассматривая самые невероятные предметы, прожившие жизнь, а теперь ждали случая начать новую в новом месте. Я воображал себе их в разных домах – это было увлекательное занятие.
Заканчивалось все всегда одинаково: за мной приходила Лола Маленькая. Она вечно торопилась, потому что ей нужно было готовить ужин, а потом еще мыть посуду. И я пожал плечами в ответ на вопрос сеньора Беренгера: когда за мной придут.
– Иди сюда, – сказал он, доставая лист белой бумаги. – Сядь за тот тюдоровский стол и порисуй немножко.
Мне никогда не нравилось рисовать, потому что я не умею, совсем не умею. Оттого меня всегда восхищало твое умение, оно кажется мне чудесным. Сеньор Беренгер говорил мне «порисуй немножко», поскольку ему жаль было видеть, как я бездельничаю, хотя это было не так. Я не бездельничал, я – размышлял. Но с сеньором Беренгером спорить бесполезно. Так что, сидя за тюдоровским столом, я соображал, как бы сделать так, чтобы он оставил меня в покое. Вынул Черного Орла из кармана и попробовал нарисовать его. Бедняга Черный Орел, если б он увидел свой портрет… Кстати, Черный Орел все еще не нашел времени познакомиться с шерифом Карсоном, так как я только сегодня утром выменял его у Рамона Колля на губную гармошку Вейса. Если отец узнает об этом, он точно меня убьет.
Сеньор Беренгер не был похож на других; от его смеха мне становилось немного не по себе, а еще он обращался с Сесилией так, словно она никчемная служанка, и этого я ему так и не простил. Однако этот человек много знал о моем отце, который для меня был великой тайной.
2
«Санта-Мария» прибыла в Остию туманным утром второго четверга сентября. Плавание из Барселоны было значительно хуже, чем любое из путешествий Энея, предпринятых им в поисках своей судьбы и вечной славы. На борту «Санта-Марии» Нептун ему не благоволил: то и дело приходилось свешиваться над водой и кормить рыб, так что к концу путешествия цвет лица у него изменился с яркого и здорового, какой присущ крестьянам из долины Плана, на бледный, словно у загробного видения.
Монсеньор Жузеп Торрас-и?Бажес лично принял решение, что, учитывая превосходные качества этого семинариста – ум, старательность в учебе, благочестие, душевную чистоту и искреннюю веру, которыми, несмотря на юный еще возраст, обладает этот семинарист, – сей прекрасный цветок нуждается в более пышном цветнике, чем скромный огород семинарии в Вике, где он завянет и понапрасну растратит те сокровенные дары, которыми наделил его Господь.
– Но я не хочу ехать в Рим, монсеньор! Я хочу посвятить себя учебе…
– Именно по этой причине я и отправляю тебя в Рим, возлюбленный сын мой. Я хорошо знаю нашу семинарию и то, что такой ум, как твой, лишь понапрасну тратит здесь время.
– Но монсеньор…
– Господь создал тебя для высоких свершений. Твои преподаватели просто требуют от меня такого решения, – сказал он, несколько театральным жестом поднимая вверх бумагу, которую держал в руке.
«Рожденный в усадьбе Жес близ города Тона, сын достойных Андреу и Розалии; уже в возрасте шести лет обнаружил стремление к церковному служению и начал посещать вводный курс латыни под руководством моссена[6 - Моссен – обращение к священнику, принятое у каталонцев.] Жасинта Гарригоса. Был столь успешен в учении, что, осваивая курс риторики, написал сочинение Oratio Latina[7 - «Латинское красноречие» (лат.).] и был допущен к его защите, чем – как знает монсеньор по собственному опыту, ибо мы имели честь учить Вас в этих стенах, – учителя поощряют лишь наиболее достойных учеников, добившихся значительных успехов в изучении сего наипрекраснейшего языка. Сие событие произошло, когда юноше исполнилось только одиннадцать лет, что свидетельствует о его исключительном развитии. Таким образом, все получили возможность услышать блестящую ораторскую речь Феликса Ардевола, произнесенную на языке Вергилия в присутствии весьма впечатленной публики, равно как его родителей и брата. Дабы почтенная аудитория могла как следует видеть и слышать маленького оратора, ему пришлось встать на специальную подставку. Так Феликс Ардевол-и?Гитерес начал свое триумфальное восхождение в области философии, теологии, математики, чтобы сравняться с такими просветленными учениками этой семинарии, как отцы Жауме Балмес-и?Урпиа, Антони Мария Кларет-и?Клара, Жасинт Вердагер-и?Сантало, Жауме Коллеу-и?Бансельс[8 - Известные каталонские философы и теологи XIX в., деятели т. н. Каталонского Возрождения.], профессор Андреу Дуран и Вы сами, Ваше преосвященство, коего мы удостоились в качестве епископа нашего возлюбленного диоцеза. Мы желали бы выразить благодарность всем славным предшественникам. Ибо сказал Господь наш: „Laudemus viros gloriosos et parentes nostros in generatione sua“ (Eccli., 44, 1)[9 - «Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода» (лат.). Цит. по Вульгате.]. Суммируя все вышеизложенное, мы от всей души просим Вас направить в Папский Григорианский университет студента Феликса Ардевола-и?Гитереса, дабы он там изучал теологию».
– У тебя нет выбора, сын мой!
Феликс Ардевол не осмелился признаться, что ненавидит корабли, поскольку родился и всегда жил на твердой земле, очень далеко от моря. И теперь, из-за того что он не смог быть откровенным с епископом, ему пришлось предпринять это невыносимое путешествие. На задворках порта Остии, заваленных какими-то полусгнившими ящиками и кишащими крысами, он исторг из себя свою беспомощность и почти все воспоминания о прошлом. А за следующие несколько минут – пока пытался разогнуться и восстановить дыхание, пока отирал рот платком – он решительно облекся в сутану странствий и обратил взор к открывавшимся перед ним блестящим перспективам. Подобно Энею, когда тот прибыл в Рим.
– Это лучшая комната в общежитии.
Феликс Ардевол остановился и обернулся, удивленный. В дверном проеме, с приветливой улыбкой, стоял невысокий полный студент, истекающий по?том в шерстяном доминиканском хабите.
– Феликс Морлен, из Льежа, – представился незнакомец, делая шаг вперед.
– Феликс Ардевол. Из Вика.