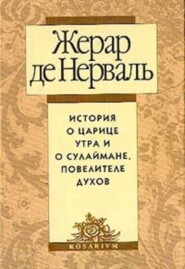По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Король шутов
Автор
Год написания книги
1845
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Право, – продолжал Орлеанский, взглянув на него, – можно подумать, что он всегда был пажом. Какой хорошенький, ловкий.
Он потрепал его ладонью по щеке, он бы обнял и расцеловал его, если бы его не окружали свидетели, уже начинавшие чесать языки. В числе таких был Гюг де Гизей, напомнивший ближайшему соседу о появлении Колины Демер на Суде Любви.
– Ты всегда будешь при мне, пажик, будешь служить мне за столом.
– О! Какое для меня счастье, – отвечал восторженно Жакоб.
– Этот юноша, – продолжал Иоанн, – даст себя убить за вас, если представится случай, а сегодняшнее происшествие, кузен, может повториться.
Орлеанский, видимо задетый такой настойчивостью, возразил очень громко:
– Признаюсь, я ничего не делаю для того, чтобы нравиться этой сволочи, я никогда не стану брататься с ними и здороваться за руку с мясниками и кожевниками или подставлять щеку для поцелуя рыночным дамам, от которых несет чесноком. Пфу!.. Вот источник нахальства черни и всех бунтов. На этот сюжет я сочинил фаблио, над которым вы подумайте. Содержание этого фаблио такое: рыцарь подает руку мужику; мужик сначала целует ее, потом жмет в своей руке, потом сильно тянет ее и в конце концов стаскивает рыцаря на землю.
– Превосходный сюжет для фаблио, – сказал Гюг де Гизей.
– Я тебя сброшу когда-нибудь этой мужичьей рукой, которую ты так презираешь, – проворчал герцог Бургундский.
Герцоги Анжуйский, Беррийский и Бурбонский, желая положить конец разговору, который мог принять дурной оборот, поднялись с мест, говоря, что им хочется есть.
Орлеанский подал знак, по которому занавесь в глубине залы поднялась и присутствующие увидели накрытый стол, на котором возвышались целые причудливые монументы пирожных и всяких сластей, окруженных цветами. Пятеро герцогов уселись за этот стол, а за каждым стал один из дворян, состоявших при них: Рауль д'Актонвиль встал за герцогом Бургундским, за Анжуйским, Беррийским и Бурбонским стали Сурди, Монтодуен и Тюльер; что же касается до Орлеанского, то за ним, по его приказанию, стал Жакоб.
Распорядителем пира был шамбелан короля Карл Савуази.
Загремели трубы, множество слуг разносили вокруг стола серебряные кувшины и блюда, трубные звуки, раздававшиеся с перерывами, покрывали нескончаемую симфонию, которая опять началась.
Бургундский и Орлеанский, сидя рядом, оказывали друг другу придворные любезности, отказывались брать кушанья один раньше другого, многие из их сторонников остались этим очень довольны, но были и такие, которых эта игра не обманывала.
– Гм! – говорил Гизей на ухо Тюльеру, который, как ему было известно, был приверженцем королевского брата, – я надеюсь, что герцог Орлеанский не поймается на удочку, сколько ни гримасничай этот Жанно!
– Можете быть в этом уверены, сир Гюг; он после ужина непременно вымоет себе духами руки, чтобы очиститься от подлого прикосновения руки, запятнанной чернью.
– Ах, когда же придет час возмездия за наглость его и всей его свиты! – прошептал Рауль д'Актонвиль, не проронивший ни одного слова из ответа Тюльера.
XXV. Баллада
Орлеанский, чувствительный как женщина и поэт по темпераменту, находился под обаянием аромата цветов, которыми покрыт был стол, но частые возлияния вывели его наконец из мечтательности.
– Шамбелан, – сказал он, – король шутов теперь здесь или нет?
– Он, ваше высочество, на эстраде со своими жонглерами.
– Позовите его, пожалуйста.
По знаку шамбелана, Гонен предстал перед герцогом, смущенный непритворно. Он помнил сцену в замке де Боте и, с того самого дня, постоянно боялся, что его узнают, хотя и был тогда отлично загримирован.
– Мне очень странно, – начал герцог, – что ты позволяешь себе аллегории, направленные против нас…
– Э, кузен, – поспешил вмешаться герцог Бургундский, желая казаться добряком, – простите уж ему за то, что он очень остроумен.
– Я прощу, но только с условием.
– С каким, ваше высочество, – спросил Гонен.
– А таким, что ты должен дать мне возможность оценить красоту самой прелестной из твоих актрис. Говорят – это цвет красоты.
– Можно сказать почти розовый бутон.
– Только «почти»?
– У нее на это есть достаточное оправдание: на ее родине слишком жарко.
– Это где же?
– В Андалузии, ваше высочество. – Про себя Гонен добавил: – «Андалузянка с улицы Глатаньи!» Нужно сказать, что один старинный и наивный хроникер обозначил улицу Глатаньи такими словами: «rue ou est desfillettes».
– Хорошо, – прибавил Орлеанский, – мы об этом поговорим еще. А теперь, после шутихи, перейдем к шутам. Завтрашний день ты, король шутов, предоставишь их в распоряжение господина шамбелана, который произведет им смотр. Понимаете ли, Савуази?
– Отлично понимаю, ваше высочество.
– Но я не понимаю, – сказал Гонен.
– Тебе вовсе не нужно понимать.
– Может быть даже лучше, чтобы я не понимал.
– Ты слишком много рассуждаешь, король шутов; довольно, даже слишком довольно. Гонен раскланялся и вернулся на эстраду.
– Кузен Бургундский, – снова заговорил Орлеанский, – вот уже много прошло времени с тех пор, как герцогиня Маргарита не была в Париже… а, между тем, красота и ум ее составляли украшение двора, пока вы воевали с неверными.
– Она предпочитает уединение и чувствует себя лучше в своем герцогстве, – ответил, едва сдерживаясь, Иоанн.
– Странно: в ней не заметно было такой антипатии к Парижу в то время, когда вы были в плену у турок.
Иоанн готов был вспыхнуть, но вмешался герцог Беррийский.
– Дорогие племянники, вы не кушаете, а между тем вот превосходные ржанки.
Пока тот и другой брали предложенные блюда, он наклонился к своим братьям Анжуйскому и Бурбонскому и сказал вполголоса:
– Если мы не вмешаемся в разговор, то они недолго останутся в мире.
Затем прибавил громко:
– Правда ли, герцог Иоанн, что турки употребляют некое черное, как чернило, питье, которое называют кофе?
– А правда ли, – спросил со своей стороны герцог Бурбонский, – что они бреют головы и оставляют только один клок волос, за который ангел смерти должен тащить их в рай Магомета?
– А правда, – сказал еще Анжуйский, – что они совсем не пьют вина?
Он потрепал его ладонью по щеке, он бы обнял и расцеловал его, если бы его не окружали свидетели, уже начинавшие чесать языки. В числе таких был Гюг де Гизей, напомнивший ближайшему соседу о появлении Колины Демер на Суде Любви.
– Ты всегда будешь при мне, пажик, будешь служить мне за столом.
– О! Какое для меня счастье, – отвечал восторженно Жакоб.
– Этот юноша, – продолжал Иоанн, – даст себя убить за вас, если представится случай, а сегодняшнее происшествие, кузен, может повториться.
Орлеанский, видимо задетый такой настойчивостью, возразил очень громко:
– Признаюсь, я ничего не делаю для того, чтобы нравиться этой сволочи, я никогда не стану брататься с ними и здороваться за руку с мясниками и кожевниками или подставлять щеку для поцелуя рыночным дамам, от которых несет чесноком. Пфу!.. Вот источник нахальства черни и всех бунтов. На этот сюжет я сочинил фаблио, над которым вы подумайте. Содержание этого фаблио такое: рыцарь подает руку мужику; мужик сначала целует ее, потом жмет в своей руке, потом сильно тянет ее и в конце концов стаскивает рыцаря на землю.
– Превосходный сюжет для фаблио, – сказал Гюг де Гизей.
– Я тебя сброшу когда-нибудь этой мужичьей рукой, которую ты так презираешь, – проворчал герцог Бургундский.
Герцоги Анжуйский, Беррийский и Бурбонский, желая положить конец разговору, который мог принять дурной оборот, поднялись с мест, говоря, что им хочется есть.
Орлеанский подал знак, по которому занавесь в глубине залы поднялась и присутствующие увидели накрытый стол, на котором возвышались целые причудливые монументы пирожных и всяких сластей, окруженных цветами. Пятеро герцогов уселись за этот стол, а за каждым стал один из дворян, состоявших при них: Рауль д'Актонвиль встал за герцогом Бургундским, за Анжуйским, Беррийским и Бурбонским стали Сурди, Монтодуен и Тюльер; что же касается до Орлеанского, то за ним, по его приказанию, стал Жакоб.
Распорядителем пира был шамбелан короля Карл Савуази.
Загремели трубы, множество слуг разносили вокруг стола серебряные кувшины и блюда, трубные звуки, раздававшиеся с перерывами, покрывали нескончаемую симфонию, которая опять началась.
Бургундский и Орлеанский, сидя рядом, оказывали друг другу придворные любезности, отказывались брать кушанья один раньше другого, многие из их сторонников остались этим очень довольны, но были и такие, которых эта игра не обманывала.
– Гм! – говорил Гизей на ухо Тюльеру, который, как ему было известно, был приверженцем королевского брата, – я надеюсь, что герцог Орлеанский не поймается на удочку, сколько ни гримасничай этот Жанно!
– Можете быть в этом уверены, сир Гюг; он после ужина непременно вымоет себе духами руки, чтобы очиститься от подлого прикосновения руки, запятнанной чернью.
– Ах, когда же придет час возмездия за наглость его и всей его свиты! – прошептал Рауль д'Актонвиль, не проронивший ни одного слова из ответа Тюльера.
XXV. Баллада
Орлеанский, чувствительный как женщина и поэт по темпераменту, находился под обаянием аромата цветов, которыми покрыт был стол, но частые возлияния вывели его наконец из мечтательности.
– Шамбелан, – сказал он, – король шутов теперь здесь или нет?
– Он, ваше высочество, на эстраде со своими жонглерами.
– Позовите его, пожалуйста.
По знаку шамбелана, Гонен предстал перед герцогом, смущенный непритворно. Он помнил сцену в замке де Боте и, с того самого дня, постоянно боялся, что его узнают, хотя и был тогда отлично загримирован.
– Мне очень странно, – начал герцог, – что ты позволяешь себе аллегории, направленные против нас…
– Э, кузен, – поспешил вмешаться герцог Бургундский, желая казаться добряком, – простите уж ему за то, что он очень остроумен.
– Я прощу, но только с условием.
– С каким, ваше высочество, – спросил Гонен.
– А таким, что ты должен дать мне возможность оценить красоту самой прелестной из твоих актрис. Говорят – это цвет красоты.
– Можно сказать почти розовый бутон.
– Только «почти»?
– У нее на это есть достаточное оправдание: на ее родине слишком жарко.
– Это где же?
– В Андалузии, ваше высочество. – Про себя Гонен добавил: – «Андалузянка с улицы Глатаньи!» Нужно сказать, что один старинный и наивный хроникер обозначил улицу Глатаньи такими словами: «rue ou est desfillettes».
– Хорошо, – прибавил Орлеанский, – мы об этом поговорим еще. А теперь, после шутихи, перейдем к шутам. Завтрашний день ты, король шутов, предоставишь их в распоряжение господина шамбелана, который произведет им смотр. Понимаете ли, Савуази?
– Отлично понимаю, ваше высочество.
– Но я не понимаю, – сказал Гонен.
– Тебе вовсе не нужно понимать.
– Может быть даже лучше, чтобы я не понимал.
– Ты слишком много рассуждаешь, король шутов; довольно, даже слишком довольно. Гонен раскланялся и вернулся на эстраду.
– Кузен Бургундский, – снова заговорил Орлеанский, – вот уже много прошло времени с тех пор, как герцогиня Маргарита не была в Париже… а, между тем, красота и ум ее составляли украшение двора, пока вы воевали с неверными.
– Она предпочитает уединение и чувствует себя лучше в своем герцогстве, – ответил, едва сдерживаясь, Иоанн.
– Странно: в ней не заметно было такой антипатии к Парижу в то время, когда вы были в плену у турок.
Иоанн готов был вспыхнуть, но вмешался герцог Беррийский.
– Дорогие племянники, вы не кушаете, а между тем вот превосходные ржанки.
Пока тот и другой брали предложенные блюда, он наклонился к своим братьям Анжуйскому и Бурбонскому и сказал вполголоса:
– Если мы не вмешаемся в разговор, то они недолго останутся в мире.
Затем прибавил громко:
– Правда ли, герцог Иоанн, что турки употребляют некое черное, как чернило, питье, которое называют кофе?
– А правда ли, – спросил со своей стороны герцог Бурбонский, – что они бреют головы и оставляют только один клок волос, за который ангел смерти должен тащить их в рай Магомета?
– А правда, – сказал еще Анжуйский, – что они совсем не пьют вина?