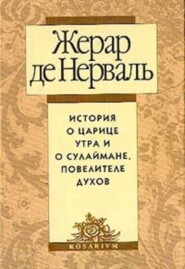По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жак Казот
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, слава богу! – воскликнул Руше. – Кажется, господин Казот решил разом покончить со всею Академией, подвергнув ее членов пыткам и казням; благодарение Небу, я…
– Вы? Вы также умрете на эшафоте.
– Ну надо же придумать такое! – вскричали собравшиеся. – Он как будто поклялся истребить всех подряд!
– Но это не я поклялся…
– Стало быть, нас поубивают турки или татары? Но даже и они не способны…
– Вовсе нет, господа! Ведь я же сказал: вами будет править только философия, только разум. И все те, кто погубит вас, будут философами; они станут с утра до ночи произносить речи подобные тем, что я выслушиваю от вас уже целый час; они повторят все ваши максимы, процитируют, подобно вам, стихи Дидро и, Деву…
Слушавшие перешептывались: «Да ведь он безумец (ибо Казот сохранял полнейшую серьезность, говоря все это). Неужто вы не видите, что он шутит, – всем известно, что ему нравится приправлять свои шутки мистикой».
– Верно, – согласился с ними Шамфор, – однако чудеса его что-то слишком невеселы, это юмор висельника. Но скажите, господин Казот, когда же сбудется ваше пророчество?
– Не пройдет и шести лет, как случится все мною предсказанное.
– Вот так диво! – сказал на сей раз я сам. – Но что же вы меня-то пропустили?
– О, вас действительно ожидает диво, и диво необыкновенное: вы станете христианином.
Громкие восклицания встретили эти слова.
– Ага! – обрадовался Шамфор. – Ну, теперь я спокоен: ежели нам суждено погибнуть, когда Лагарп обратится в христианскую веру, мы смело можем рассчитывать на бессмертие.
– Что же до нас, женщин, – вмешалась тут госпожа герцогиня де Грамок, – то мы счастливее мужчин; революции нас вовсе не касаются. То есть, я хочу сказать, что даже если нам и случается как-нибудь принять в них участие, нас за это никогда не карают, ведь мы – слабый пол.
– Пол ваш, уважаемые дамы, на сей раз не защитит вас; пусть даже вы ни в чем не станете принимать участия, с вами поступят точно так же, как с мужчинами, без всякого снисхождения.
– Да что вы такое говорите, господин Казот! Уж не конец ли света вы нам пророчите?!
– Этого я не знаю; знаю лишь, что вас, госпожа герцогиня, привезут на эшафот вместе со многими другими дамами в тележке палача, со связанными за спиной руками.
– Ах, вот как?! Ну, в таком случае, я надеюсь, что меня хотя бы посадят в карету, задрапированную черным.
– Нет, сударыня, еще более знатные дамы, чем вы, будут доставлены к эшафоту на простой телеге и, как вам, им свяжут руки за спиной.
– Более знатные, чем я? Ах, скажите! Значит, принцессы крови?
– Еще более знатные.
Тут собравшиеся дрогнули, лицо хозяина омрачилось. Все начали находить, что шутка становится слишком опасною.
Госпожа де Грамон, стараясь разрядить обстановку, не стала просить разъяснений и лишь весело промолвила: «Вот увидите, он мне даже исповедника не оставит!»
– Нет, сударыня, исповедника не будет ни у вас, ни у кого другого. Последний казнимый, кому выпадет такая милость, это…
Казот запнулся и умолк. «Ну, что же вы, какому счастливому смертному выпадет такая удача?»
– Да, то будет единственная его удача; это король Франции.
Хозяин дома резко встал, все последовали его примеру. Подойдя к Казоту, он сказал ему весьма настойчиво: «Дорогой господин Казот, по моему разумению, ваш мрачный розыгрыш слишком затянулся; вы компрометируете и общество наше, и себя самого!»
Ничего не ответив, Казот собрался было удалиться, как вдруг госпожа де Грамон, все еще надеясь свести дело к шутке, подошла к нему со словами:
– Господин пророк, вы нагадали всем, кроме самого себя, отчего это?
Казот, опустив глаза, помолчал, затем сказал.
– Сударыня, приходилось ли вам читать об осаде Иерусалима у Иосифа Флавия?
– Ну разумеется, кто же этого не читал! Но говорите, говорите так, словно я ничего не знаю.
– Ну так вот, сударыня, один человек в течение семи дней кряду обходил крепостную стену на виду у осажденных и осаждающих, восклицая мрачным громовым голосом: «Горе Иерусалиму! Горе мне самому!» И в какой-то миг камень, пущенный вражескою метательной машиною, попал в него и раздавил насмерть.
С этими словами Казот откланялся и вышел.
Можно, разумеется, отнестись к этому документу скептически, особенно если вспомнить вполне разумное объяснение Шарля Нодье: по его словам, в ту эпоху нетрудно было предугадать, что надвигающаяся революция вначале обрушится на высшее общество, а затем пожрет и собственных вождей; однако приведем все же любопытнейший отрывок из поэмы об Оливье, изданной ровно за тридцать лет до 1793 года; в нем автор с весьма странным тщанием описывает отрубленные головы, и это тоже можно счесть своего рода пророчеством:
«Тому уже четыре года, как оба мы были завлечены волшебством во дворец феи Багас. Сия коварная колдунья, зная о продвижении христианской армии по Азии, решила остановить ее, заманивая в ловушки рыцарей – защитников веры. Для этого она выстроила роскошный дворец. К несчастию нашему, мы вступили на дорогу, к нему ведущую, и вскоре, влекомые магической силою, которую ошибочно приняли за очарованность красотою пейзажа, подошли к колоннаде, окружающей дворец; едва лишь ступили мы на мраморные плиты, казавшиеся незыблемыми, как они словно растаяли у нас под ногами: нежданное падение, и мы очутились в подземелье, где огромное колесо с острыми, как меч, лопастями во мгновение ока рассекло тела наши на части; самое поразительное, что за этим странным расчленением не воспоследовала смерть.
Влекомые собственным весом, части наших тел попали в глубокую яму, где смешались со множеством чужих разъятых туловищ. Головы же наши покатились прочь, точно бильярдные шары. Сумасшедшее это вращение отняло последние остатки разума, затуманенного сим невероятным приключением; и я осмелилась открыть глаза лишь по прошествии некоторого времени; тут же увидела я, что голова моя помещается на чем-то вроде ступени амфитеатра, а рядом и супротив установлено до восьми сотен других голов, принадлежавших людям обоего пола, всех возрастов и сословий. Головы эти сохраняли способность видеть и говорить; самое странное было то, что все они непрестанно зевали, и я со всех сторон слышала невнятные возгласы: „Ах, какая скука, с ума можно сойти!“
Не в силах воспротивиться общему примеру, я принялась зевать, как другие.
– Ну вот и еще одна зевака явилась! – произнесла массивная женская голова, стоявшая напротив меня. – О господи, до чего же тоскливо! – И она продолжала зевать еще усерднее.
– Но, по крайней мере, эти уста еще молоды и свежи! – возразила другая голова. – А какие беленькие зубки!
Затем, обратясь уже прямо ко мне, она спросила:
– Могу ли я узнать, сударыня, имя любезной товарки по несчастью, которую послала нам фея Багас?
Я взглянула на говорившую со мной голову – она принадлежала мужчине. Я не могла различить ее черты, но выражение ее было живое и уверенное, а в голосе звучало неподдельное сострадание.
Я начала было рассказывать: „У меня есть брат…“, но мне не дали окончить даже эту первую фразу.
– О господи! – воскликнула женская голова, первою заговорившая со мною. – Еще одна болтушка со своими историями; мало нам докучали всякими несносными россказнями! Лучше уж зевайте, милочка, а братца вашего оставьте в покое! Ну у кого из нас нет братьев?! Не будь у меня моих, я бы нынче преспокойно царствовала, а не торчала бы здесь!
– Боже милостивый! – сердито отвечала мужская голова. – Ишь как вы заважничали; не с вашей бы физиономией эдак заноситься!
– Какая неслыханная наглость! – воскликнула та. – Ах, будь при мне руки-ноги!..
– Да будь при мне одни только руки!.. – отозвалась ее противница. – Впрочем, – продолжала она, обращаясь ко мне, – судите сами: на что способна голова?! Все ее угрозы – лишь пустая болтовня!
– О, не кажется ли вам, что спор ваш переходит все границы приличия? – заметила я.
– Ах, нет, не мешайте нам препираться, уж лучше ссориться, чем зевать со скуки. Чем еще могут заниматься люди, имеющие лишь глаза да уши и обреченные целый век томиться вместе; ведь мы не имеем, да и не можем завязывать новых знакомств, особливо приятных; стало быть, нам и злословить-то не о ком…