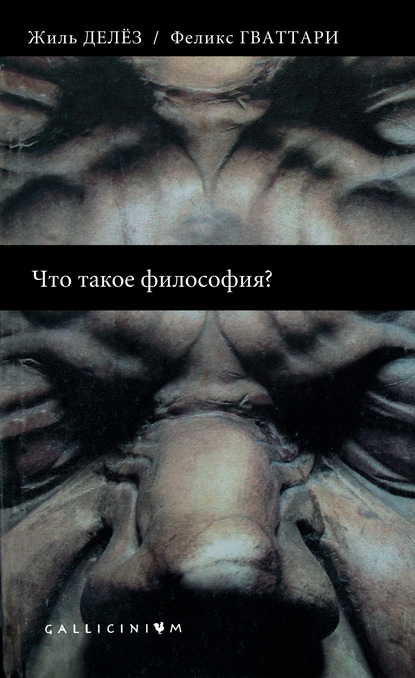По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Что такое философия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда задают вопрос: «были ли у cogito предшественники?» – то имеется в виду вот что: существуют ли концепты, подписанные именами прежних философов, которые имели бы похожие, почти те же самые составляющие, но какой-то одной не хватало бы или же добавлялись лишние, так что cogito не могло достичь кристаллизации, поскольку составляющие еще не совпадали в некотором «я»? Все как бы и готово, а чего-то не хватает. Возможно, этот прежний концепт отсылал к иной проблеме, чем проблема cogito (чтобы появилось картезианское cogito, должна была измениться проблема), или даже разворачивался в другом плане. Картезианский план состоит в том, чтобы устранить любые эксплицитно-объективные пресуппозиции, при которых концепт отсылал бы к другим концептам (например, «человек как разумное животное»). Он опирается только на префилософское понимание, то есть на имплицитно-субъективные пресуппозиции: все знают, что значит «мыслить», «существовать», «я» (мы знаем это, поскольку сами делаем это, являемся этим или говорим это). Это совершенно новое различение. Подобному плану требуется первичный концепт, который не должен предполагать ничего объективного. То есть проблема ставится следующим образом: каким будет первичный концепт в этом плане, или с чего начать, чтобы определить истину как абсолютно чистую субъективную достоверность? Именно таково cogito. Другие концепты пойдут и на завоевание объективной действительности, но лишь при условии что они связаны мостами с первичным концептом, решают проблемы, подчиненные тем же, что и он, условиям, и остаются в том же, что и он, плане; достоверное познание само вбирает в себя объективную действительность – а не так, чтобы объективная действительность предполагала какую-то истину, признаваемую предсуществующей или предположенной ей.
Напрасно спрашивать себя, прав Декарт или не прав. Действительно ли субъективно-имплицитные пресуппозиции лучше объективно-эксплицитных? Нужно ли вообще с чего-то «начинать», а если нужно, то обязательно ли с точки зрения субъективной достоверности? И может ли при этом «мышление» служить сказуемым при некотором «Я»? Прямого ответа нет. Картезианские концепты могут быть оценены только в зависимости от проблем, на которые отвечают, и от плана, в котором происходят. Вообще говоря, если создававшиеся ранее концепты могли лишь подготовить, но не образовать новый концепт – значит, их проблема еще не выделилась из других, а их план еще не получил необходимую кривизну и движения. Если же концепты могут заменяться другими, то лишь при условии новых проблем и нового плана, по отношению к которым не остается, например, никакого смысла в «Я», никакой необходимости в начальной точке, никакого различия между пресуппозициями (или же возникают другие смыслы, необходимости, различия). Концепт всегда обладает той истиной, которую получает в зависимости от условий своего создания. Бывает ли, что один план лучше другого, а одни проблемы настоятельнее других? На сей счет решительно ничего нельзя сказать. Просто следует строить планы и ставить проблемы, так же как следует творить концепты. Философ старается работать как можно лучше, но ему не до того, чтобы выяснять, самое ли это лучшее, и даже не до того, чтобы вообще интересоваться таким вопросом. Разумеется, новые концепты должны соотноситься с нашими проблемами, нашей историей и особенно с нашими становлениями. Но что значат «концепты нашего времени» или же вообще какого-либо времени? Концепты не вечны, но разве это делает их временными? Что такое философская форма проблем нашего времени? Концепт бывает «лучше» прежнего в том смысле, что позволяет расслышать новые вариации и неведомые переклички, производит непривычные членения, приносит с собой парящее над нами Событие. Но разве не то же самое делал и прежний концепт? И можно даже сегодня оставаться платоником, картезианцем или кантианцем, ибо вполне правомерно считать, что их концепты способны вновь заработать применительно к нашим проблемам и одушевить собой те концепты, которые еще предстоит создать. И кто лучший последователь великих философов – тот, кто повторяет то, что они говорили, или же тот, кто делает то, что они делали, то есть создает концепты для необходимо меняющихся проблем?
Поэтому у философа очень мало вкуса к дискуссиям. Услышав фразу «давайте подискутируем», любой философ убегает со всех ног. Спорить хорошо за круглым столом, но философия бросает свои шифрованные кости на совсем иной стол. Самое малое, что можно сказать о дискуссиях, это что они не продвигают дело вперед, так как собеседники никогда не говорят об одном и том же. Какое дело философии до того, что некто имеет такие-то взгляды, думает так, а не иначе, коль скоро остаются невысказанными замешанные в этом споре проблемы? А когда эти проблемы высказаны, то тут уж надо не спорить, а создавать для назначенной себе проблемы бесспорные концепты. Коммуникация всегда наступает слишком рано или слишком поздно, и беседа всегда является лишней по отношению к творчеству. Иногда философию представляют себе как вечную дискуссию, в духе «коммуникационной рациональности» или «мирового демократического диалога». Нет ничего более неточного; когда один философ критикует другого, то делает это исходя из чуждых ему проблем и в чуждом ему плане, переплавляя его концепты, подобно тому как можно переплавить пушку, отлив из нее новое оружие. Спорящие всегда оказываются в разных планах. Критиковать – значит просто констатировать, что старый концепт, погруженный в новую среду, исчезает, теряет свои составляющие или же приобретает другие, которые его преображают. А те, кто занимается нетворческой критикой, кто ограничивается защитой исчезающего концепта, не умея придать ему сил к возрождению, – для философии такие суть истинное бедствие. Все эти специалисты по дискуссиям и коммуникации движимы обидой. Сталкивая друг с другом пустые общие словеса, они говорят лишь сами о себе. Философия же не выносит дискуссий. Ей всегда не до них. Спор для нее нестерпим не потому, чтобы она была так уж уверена в себе; напротив, именно неуверенность влечет ее на новые, более одинокие пути. Но разве Сократ не превратил философию в вольную дружескую дискуссию? Разве это не вершина греческой общительности – беседы свободных людей? На самом деле Сократ постоянно занимался тем, что делал невозможной всякую дискуссию – будь то в краткой форме агона (вопросов и ответов) или в длинной форме соперничающих между собой речей. Из друга он сделал исключительно друга концепта, а из самого концепта – безжалостный монолог, устраняющий одного соперника за другим.
ПРИМЕР II
Мастерство Платона в построении концепта хорошо видно на примере «Парменида». В Едином есть две составляющих (бытие и небытие), есть несколько фаз этих составляющих (Единое большее бытия, равное бытию, меньшее бытия; Единое большее небытия, равное небытию), есть зоны неразличимости (по отношению к себе, по отношению к другим). Это настоящий образец концепта.
Но не предшествует ли Единое всякому концепту? Здесь Платон учит одному, а сам делает обратное: он творит концепты, но ему нужно полагать их как репрезентацию того несотворенного, что им предшествует. В свой концепт он включает время, но это время должно быть Предшествующим. Он конструирует концепт – но как свидетельство некоторой предсуществующей объектности, в форме временного различия, которым может измеряться удаленность или близость подразумеваемого конструктора. Дело в том, что в плане Платона истина полагается в качестве предполагаемой, уже присутствующей. Именно такова Идея. В платоновском концепте Идеи первичность получает смысл совершенно точный и совершенно отличный от того, какой она будет иметь у Декарта: это то, что объективно обладает чистым качеством, или то, что не является ничем другим кроме того, что оно есть. Одна лишь Справедливость справедлива, одно лишь Мужество мужественно – это и есть Идеи, и в этом смысле Идея матери существует, если есть такая мать, которая является только матерью (которая не была бы сама еще и дочерью), или Идея волоса – если есть такой волос, который был бы только волосом (и не был бы также кремнием). Понятно, что вещи, напротив, всегда являются еще и чем-то иным, чем то, что они есть: то есть в лучшем случае они имеют качество во вторичном владении, они могут лишь претендовать на него, и лишь постольку, поскольку причастны Идее. А раз так, у концепта Идеи оказываются следующие составляющие: обладаемое качество (или же качество, которым требуется обладать); Идея, обладающая первичным владением, без всякой причастности; то, что претендует на качество и может обрести его лишь во вторичное (третичное, четвертичное…) владение; Идея, к которой причастны другие и которая судит о достоинствах претендентов. Это, можно сказать, Отец, отец-двойник, дочь и претенденты на ее руку. Таковы интенсивные ординаты Идеи; притязания претендента могут основываться лишь на соседстве, на более или менее тесной близости, которую он «имел» по отношению к Идее, паря над нею в некотором прошлом – обязательно прошлом – времени. В этой своей форме прошлости время принадлежит к концепту, образует как бы его зону. Само собой разумеется, что картезианское cogito не могло развиться в этом греческом плане, на почве платонизма. До тех пор, пока сохранялось предсуществование Идеи (хотя бы в христианской форме прообразов в разуме Божьем), cogito могло лишь подготавливаться, но не сложиться окончательно. Для того чтобы Декарт создал этот концепт, «первичность» должна была совершенно переосмыслиться, приняв субъективный смысл, и должна была уничтожиться всякая разница во времени между идеей и формирующей ее душой-субъектом (поэтому так важно критическое замечание Декарта по поводу анамнесиса – когда он пишет, что врожденные идеи существуют не «до», а «одновременно» с душой). Следовало добиться едино-временности концепта и сделать так, чтобы даже истины создавались Богом. Сама природа притязаний должна была измениться – претендент уже не получает руку дочери от ее отца, но завоевывает ее сам, своими собственными рыцарскими подвигами… своим собственным методом. С этой точки зрения мы должны были бы и выяснять, мог ли Мальбранш (а если да, то какой ценой) вновь привести в действие составляющие платоновского концепта, оставаясь в безупречно декартовском плане. Здесь, однако, мы хотели лишь показать, что в концепте всегда есть составляющие, способные воспрепятствовать возникновению другого концепта или, наоборот, способные сами возникнуть лишь ценой исчезновения других концептов. Тем не менее концепт никогда не ценится по тому, чему он препятствует; он ценится только по своему собственному ни с чем не сравнимому положению и сотворению.
Предположим, что к концепту добавили лишнюю составляющую; вполне вероятно, что от этого он взорвется или же совершенно преобразится; возможно, следствием этого явится новый план, и во всяком случае новые проблемы. Так случилось с кантовским cogito. Да, Кант конструирует «трансцендентальный» план, где сомнение делается ненужным, а природа пресуппозиций вновь меняется. Однако именно в силу такого плана он может заявить, что хотя «я мыслю» является определением и в этом смысле уже предполагает некое неопределенное существование («я существую»), но зато еще неизвестно, каким образом это неопределенное оказывается определяемым, а равно и в какой форме оно предстает определенным. Итак, Кант «критикует» Декарта за то, что тот сказал «я – мыслящая субстанция», поскольку подобное притязание Я ничем не обосновано. Кант требует введения в cogito новой составляющей – той самой, что отверг Декарт, а именно времени, ибо только во времени мое неопределенное существование оказывается определяемым. Однако я определен во времени только как пассивно-феноменальное «я», постоянно подвергающееся внешним воздействиям, изменениям, вариациям. Теперь, стало быть, в cogito оказывается четыре составляющих: я мыслю, и в этом смысле я активен; я обладаю существованием; это существование определяемо лишь во времени, как существование пассивного «я»; следовательно, я определен как пассивное «я», необходимо представляющее себе свою мыслительную активность как воздействующего на него Другого. Это не другой субъект, а скорее тот же субъект, ставший другим… Не есть ли это путь к превращению «я» в другого? Не предвестие ли это формулы «Я – это другой»? Такой новый синтаксис, с новыми ординатами, новыми зонами неразличимости, которые обеспечены схемой, а также воздействием «я» на самого себя, – все это делает неделимыми «Я» (Je) и «я» (Moi).
Если Кант «критикует» Декарта, то это всего лишь значит, что он построил такой план и поставил такую проблему, которых не может заполнить или осуществить картезианское cogito. Декарт создал cogito как концепт, исключив время как форму прошлости, сделав его простой формой последовательности, связанной с продолжающимся творчеством концепта. Кант вновь вводит время в cogito, но это уже совсем иное время, чем время платоновского предшествования. Создается новый концепт. Кант делает время одной из составляющих нового cogito, но для этого он должен представить и новый концепт времени: время становится формой внутренности, в которой три составляющих – последовательность, а также одновременность и постоянность. А отсюда следует и новый концепт пространства, который уже не может определяться простой одновременностью, но становится формой внешности. Тем самым происходит решительный переворот. Пространство, время, «Я мыслю» – это три оригинальных концепта, связанные между собой мостами-перекрестками. Целый шквал новых концептов. История философии требует оценивать не только историческую новизну концептов, созданных тем или иным философом, но и силу их становления в процессе их взаимопереходов.
Мы всюду обнаруживаем один и тот же педагогический статус концепта – это множественность, абсолютная автореференциальная поверхность или объем, составленные из некоторого числа интенсивных вариаций, нераздельно связанных между собой в порядке соседства и пробегаемых некоторой точкой, находящейся в состоянии парящего полета. Концепт – это контур, конфигурация, констелляция некоторого будущего события. В этом смысле концепты по праву принадлежат философии, так как именно она их вновь и вновь творит. Концепт – это, разумеется, познание, но только самопознание, и познается в нем чистое событие, не совпадающее с тем состоянием вещей, в котором оно воплощается. Всякий раз выделять событие из вещей и живых существ – такова задача философии, когда она создает концепты и целостности. Строить из вещей и живых существ новое событие, придавать им все новые и новые события – пространство, время, материю, мышление, возможность как события…
Напрасно пытаться наделять концептами науку: даже когда она занимается теми же самыми «объектами», то не с точки зрения концепта, не создавая концептов. Могут возразить, что это спор о словах, но в словах почти всегда содержатся определенные интенции и уловки. Это был бы чистый спор о словах, если бы решили закрепить понятие концепта только за наукой, найдя при этом иное слово для обозначения того, чем занимается философия. Чаще же всего поступают иначе. Сначала науке приписывают способность создавать концепты, определяют концепт через творческие приемы науки, меряют его наукой, а потом задаются вопросом, нет ли возможности и для философии формировать некие концепты второго порядка, возмещающие свою неполноценность расплывчатой отсылкой к жизненному опыту. Так, Жиль-Гастон Гранже сначала определяет концепт как научную пропозицию или функцию, а потом признает, что возможны все-таки и философские концепты, в которых референциальная связь с объектом заменяется корреляцией с «целостностью опыта»[12 - Gilles-Gaston Granger, Pour la connaissance philosophique, Ed. Odile Jacob, ch. VI. 40]. На самом же деле одно из двух: либо философия вообще ведать не ведает о концепте, либо она ведает им по праву и из первых рук, ничего не оставляя на долю науки, – которая в этом, впрочем, и не нуждается, занимаясь только состояниями вещей и их условиями. Науке достаточно пропозиций и функций, а философия, со своей стороны, не имеет нужды обращаться к какому-либо опыту, способному придать лишь призрачно-внешнюю жизнь вторичным, внутренне бескровным концептам. Философский концепт не нуждается в компенсирующей референции к опыту, но сам, в силу своей творческой консистенции, создает событие, парящее над всяким опытом, как и над всяким состоянием вещей. Каждый концепт по-своему кроит и перекраивает это событие. Величие той или иной философии измеряется тем, к каким событиям призывают нас ее концепты, или же тем, какие события мы способны вычленить из концептов благодаря ей. Поэтому следует изучать во всех деталях ту уникальную, исключительную связь, которую имеют концепты с философией как творческой дисциплиной. Концепт принадлежит философии и только ей одной.
2. План имманенции
Философские концепты – это фрагментарные единства, не пригнанные друг к другу, так как их края не сходятся. Они скорее возникают из бросаемых костей, чем складываются в мозаику. Тем не менее они перекликаются, и творящая их философия всегда представляет собой могучее Единство – нефрагментированное, хотя и открытое; это беспредельная Всецелость, Omnitudo, вбирающая их все в одном и том же плане. Это как бы стол, поднос, чаша. Это и есть план консистенции или, точнее, план имманенции концептов, планомен. Концепты и план строго соответствуют друг другу, но их тем более точно следует различать. План имманенции – это не концепт, даже не концепт всех концептов. Если смешивать их между собой, то ничто не сможет помешать всем концептам слиться в один или же стать универсалиями, когда они теряют свою единичность, а план имманенции – свою открытость. Философия – это конструирование, а конструирование включает два взаимодополнительных и разноприродных аспекта – создание концептов и начертание плана. Концепты – это как множество волн, которые вздымаются и падают, тогда как план имманенции – это та единственная волна, которая их свертывает и развертывает. План облекает собой бесконечные движения, пробегающие его вперед и назад, а концепты – это бесконечные скорости конечных движений, которые всякий раз пробегают лишь свои собственные составляющие. От Эпикура до Спинозы (великолепная книга V…), от Спинозы до Мишо проблемой мысли является бесконечная скорость, но для такой скорости нужна среда, которая сама в себе бесконечно подвижна, – план, пустота, горизонт. Требуется эластичность концепта, но вместе с ней и текучесть среды[13 - Об эластичности концепта см.: Hubert Damisch, Prеface ? Prospectus de Dubuffet, Gallimard, I, p. 18, 19.]. Требуется и то и другое вместе, чтобы образовались «медленные существа», то есть мы.
Концепты напоминают архипелаг островов или же костяк – скорее позвоночный столб, чем черепную коробку, – тогда как план подобен дыханию, овевающему эти изолированные островки. Концепты – это абсолютные поверхности или объемы, неправильные по форме и фрагментарные по структуре, тогда как план представляет собой абсолютную беспредельность и бесформенность, которая не есть ни поверхность ни объем, но всегда фрактальна. Концепты – это конкретные конструкции, подобные узлам машины, а план – та абстрактная машина, деталями которой являются эти конструкции. Концепты суть события, а план – горизонт событий, резервуар или же резерв чисто концептуальных событий; это не относительный горизонт, функционирующий как предел, меняющийся в зависимости от положения наблюдателя и охватывающий поддающиеся наблюдению состояния вещей, но горизонт абсолютный, который независим от какого-либо наблюдателя и в котором событие, то есть концепт, становится независимым от видимого состояния вещей, где оно может совершаться[14 - Жан-Пьер Люмине различает горизонты относительные – как, например, земной горизонт, имеющий в своем центре наблюдателя и перемещающийся вместе с ним, и абсолютный горизонт, «горизонт событий», независимый от всякого наблюдателя и разделяющий все события на две категории – события видимые и невидимые, сообщаемые и несообщаемые (Jean-Pierre Luminet, «Le trou noir et l’infini», in Les dimensions de l’infini, Institut culturel italien de Paris). Отсылаем также к тексту дзен-буддистского монаха, где упоминается горизонт как «резерв» событий: D?gen, Sh?bogenzo, Ed. de la Diffеrence, traduction et commentaires de Renе de Ceccaty et Nakamura.]. Концептами выстлан, занят и заселен каждый кусочек плана, тогда как сам план образует ту неделимую среду, сплошная протяженность которой распределяется без разрыва между концептами; они занимают ее, не исчисляя (шифр концепта – это не число), распределяют ее между собой, не разделяя. План – это словно пустыня, которую концепты населяют без размежевания. Единственными областями плана являются сами концепты, а единственным вместилищем концептов является сам план. План не имеет иных областей, кроме заселяющих его и кочующих в нем племен. План обеспечивает все более плотную взаимную стыковку концептов, а концепты обеспечивают заселенность плана, кривизна которого все время обновляется и варьируется.
План имманенции – это не мыслимый или потенциально мыслимый концепт, но образ мысли, тот образ, посредством которого она сама себе представляет, что значит мыслить, обращаться с мыслью, ориентироваться в мысли… Это не метод, потому что любой метод касается возможных концептов и сам уже предполагает такой образ. Это также и не состояние знаний об устройстве и функционировании мозга, поскольку мысль здесь не соотносится с медленно действующим мозгом как научно характеризуемым состоянием вещей, где она просто осуществляется независимо от способа обращения с нею и от ее ориентации. Это также и не принятое в тот или иной момент мнение о мысли, ее формах, целях и средствах. Образ мысли требует строго разграничивать фактическое и юридическое: то, что относится к самой мысли, должно быть отделено от происшествий, связанных с мозгом, или же от исторических мнений. «Quid juris?» Например, потеря памяти или безумие – может ли это относиться к мысли как таковой, или же это лишь происшествия в жизни мозга, которые должны рассматриваться просто как факты? А созерцание, рефлексия, коммуникация – не суть ли это просто мнения о мысли, составляемые в ту или иную эпоху, в той или иной цивилизации? Образ мысли включает в себя только то, что мысль может востребовать себе по праву. А мысль востребует себе «только» движение, способное доходить до бесконечности. Мысль востребует по праву, отбирает для себя только бесконечное движение или же движение бесконечности. Именно из него и складывается образ мысли.
Движение бесконечности не отсылает к каким-либо пространственно-временным координатам, в которых определялись бы последовательные положения подвижного элемента и фиксированные точки и оси отсчета, по отношению к которым эти положения меняются. «Ориентация в мысли» не предполагает ни объективной системы отсчета, ни подвижного элемента, который переживал бы себя как субъект и в качестве такового желал или нуждался бы в бесконечности. Все здесь захвачено движением, так что не остается места ни для субъекта, ни для объекта, которые могут быть только концептами. В движении находится сам горизонт: относительный горизонт отдаляется по мере продвижения субъекта, в абсолютном же горизонте мы уже и всегда в плане имманенции. Характерным для бесконечного движения является его возвратно-поступательный характер: это движение направляется к некоторой цели, но одновременно и возвращается назад к себе, ибо стрелка компаса сама совпадает с полюсом. Если движение мысли к истине – это «обращение к…», то почему бы и самой истине не обратиться к мысли? И почему бы ей не отвратиться от мысли, когда сама мысль отвращается от нее? Однако здесь имеет место не слияние, а взаимообратимость, некий непосредственный, постоянный, мгновенно-молниеносный взаимообмен. Бесконечное движение двойственно, и между двумя его сторонами – всего лишь сгиб. В таком смысле и говорят, что мыслить и быть – одно и то же. Точнее, движение – это не только образ мысли, но и материя бытия. Мысль Фалеса, взвиваясь ввысь, возвращается в виде воды. Когда мысль Гераклита превращается в polemos, на нее обрушивается огонь. И здесь и там скорость одинакова: «Атом движется так же быстро, как мысль»[15 - Эпикур, «Письмо к Геродоту», 61–62.]. У плана имманенции две стороны – Мысль и Природа, Physis и No?s. Поэтому столь многие бесконечные движения заключены одно в другое, сгибаются одно внутри другого, так что возвратный ход одного мгновенно приводит в движение другое и этим грандиозным челноком непрестанно ткется план имманенции. «Обратиться к…» предполагает не только «отвратиться», но и «противостать», «развернуться вспять», «вернуться», «заблудиться», «исчезнуть»[16 - Об этой динамике см.: Michel Courthial, Le visage, в печати.]. Бесконечные движения порождаются даже негативностями: впасть в заблуждение в этом смысле так же продуктивно, как и избегнуть подделки, отдаться своим страстям – как и преодолеть их. Различные движения бесконечности настолько перепутаны между собой, что они вовсе не разрывают Всецелость плана имманенции, а образуют ее переменную кривизну, выпуклые и вогнутые зоны, всю ее фрактальную природу. Именно благодаря этой своей фрактальности планомен всякий раз оказывается бесконечностью, отличной от любой поверхности или объема, определимых как концепты. Каждое движение пробегает весь план, сразу же возвращаясь к себе, каждое движение сгибается, но вместе с тем сгибает другие и само получает от них сгиб, порождая обратные связи, соединения, разрастания, которые и образуют фрактализацию этой бесконечно сгибаемой бесконечности (переменную кривизну плана). Но если верно, что план имманенции всегда единственный и представляет собой чистую вариацию, то тем более требует объяснения существование варьирующихся, отличных друг от друга планов имманенции, которые сменяются или состязаются в истории, именно в силу отбора и предпочтения тех или других бесконечных движений. План имманенции очевидным образом различен у греков, в XVII веке и в современности (притом, что эти понятия расплывчаты и общи) – не тот образ мысли и не та материя бытия. Следовательно, план служит объектом бесконечной спецификации, а потому кажется Всецелостью лишь в каждом отдельном случае, для которого специфичен выбор того или иного движения. Эта сложность, связанная с окончательной характеристикой плана имманенции, может быть разрешена лишь постепенно.
Очень важно не путать план имманенции с занимающими его концептами. Тем не менее некоторые элементы могут встречаться дважды – в плане и в концепте, однако черты их будут при этом разными, даже если они и обозначаются одними и теми же глаголами и словами. Мы видели это на примере слов «существовать», «мысль», «единое»: они входят в составляющие концептов и сами являются концептами, но совсем по-иному, чем они принадлежат плану имманенции как образу или материи. И обратно, в плане истина может быть определена лишь через формулы «обратиться к…» или «то, к чему обращается мысль»; при этом, однако, мы не располагаем никаким концептом истины. Если и само заблуждение по праву является элементом плана, то тогда суть его просто в том, что мы принимаем ложное за истинное (падаем), концепт же оно обретет лишь в том случае, если будут определены его составляющие (например, согласно Декарту это две составляющих – ограниченное понимание и безграничная воля). Таким образом, если пренебречь разницей в природе, движения или элементы плана могут показаться просто номинальными определениями по отношению к концептам. На самом же деле элементы плана суть диаграмматические черты, тогда как концепты – интенсивные черты. Первые представляют собой движения бесконечности, вторые же – интенсивные ординаты этих движений, как бы оригинальные сечения или дифференциальные положения; это конечные движения, бесконечность которых только в скорости и которые всякий раз образуют поверхность или объем, некий неправильный контур, ставящий предел разрастанию. Первые суть абсолютные направления, по природе своей фрактальные, вторые же – абсолютные измерения, поверхности или объемы, которые всегда фрагментарны и определяются интенсивно. Первые являются интуициями, вторые – интенсионалами. Мысль о том, что любая философия вытекает из некоторой интуиции, которую она постоянно развертывает в своих концептах с разной степенью интенсивности, – эта грандиозная перспектива в духе Лейбница или Бергсона оказывается обоснованной, если рассматривать интуицию как оболочку бесконечных движений мысли, непрестанно пробегающих некоторый план имманенции. Разумеется, отсюда нельзя делать вывод, что концепты прямо выводятся из плана: для них требуется специальное конструирование, отличное от конструирования плана, и потому концепты должно создавать наряду с составлением плана. Интенсивные черты никогда не являются следствием диаграмматических черт, а интенсивные ординаты невыводимы из движений или направлений. Существующее между этими двумя разрядами соответствие – это даже нечто большее, чем простые переклички; в нем замешаны такие дополнительные по отношению к творчеству концептов инстанции, как концептуальные персонажи.
Если философия начинается с создания концептов, то план имманенции должен рассматриваться как нечто префилософское. Он предполагается – не так, как один концепт может отсылать к другим, а так, как все концепты в целом отсылают к некоему неконцептуальному пониманию. Причем это интуитивное понимание меняется в зависимости от того, как начертан план. У Декарта то было субъективно-имплицитное понимание, предполагаемое первичным концептом «Я мыслю»; у Платона то был виртуальный образ уже-помысленного, которым дублируется каждый актуальный концепт. Хайдеггер обращается к «преонтологическому пониманию Бытия», к «преконцептуальному» пониманию, в котором, очевидно, подразумевается постижение той или иной материи бытия в соотношении с тем или иным расположением мысли. Так или иначе, философия всегда полагает нечто префилософское или даже нефилософское – потенцию Всецелости, подобной волнуемой пустыне, которую заселяют концепты. «Префилософское» не означает чего-либо предсуществующего, а лишь нечто не существующее вне философии, хоть и предполагаемое ею. Это ее внутренние предпосылки. Нефилософское, возможно, располагается в самом сердце философии, еще глубже, чем сама философия, и означает, что философия не может быть понята одним лишь философско-концептуальным способом, что в сущности своей она обращается и к нефилософам[17 - Одну из самых интересных попыток в современной философии предпринял Франсуа Ларюэль: он обращается к некоторой Всецелости, которую характеризует как «нефилософскую» и, странным образом, «научную» и в которой коренится «философское решение». Такая Всецелость напоминает Спинозу. См.: Fran?ois Lamelle, Philosophie et non-philosophie, Ed. Mardaga.]. Как мы увидим, эта постоянная соотнесенность философии с нефилософией имеет различные аспекты; в данном первом аспекте философия, определяемая как творчество концептов, имеет следствием некоторую пресуппозицию, которая отлична и в то же время неотделима от нее. Философия – это одновременно творчество концепта и установление плана. Концепт есть начало философии, план же – ее учреждение[18 - Этьен Сурио (Etienne Souriau, L’instauration philosophique, Ed. Alcan, 1939), чуткий к творческой деятельности философии, писал об учредительном плане, составляющем почву этого творчества, или «философему», одушевляемую динамизмами (с. 62–63).]. Разумеется, план состоит не в какойлибо программе, чертеже, цели или средстве; это план имманенции, образующий абсолютную почву философии, ее Землю или же детерриториализацию, ее фундамент, на которых она творит свои концепты. Требуется и то и другое – создать концепты и учредить план, так же как птице нужны два крыла, а рыбе два плавника.
Обычно мысль вызывает к себе равнодушие. И тем не менее не будет ошибкой сказать, что это опасное занятие. Собственно, равнодушие прекращается именно тогда, когда эти опасности становятся очевидными, зачастую же они остаются скрытыми, малозаметными, неизбежными издержками предприятия. В силу того, что план имманенции префилософичен и работает уже не с концептами, в нем требуется экспериментировать на ощупь, и при его начертании пользуются средствами не вполне благовидными, не вполне благоразумными и рациональными. Это могут быть средства из разряда грез, патологических процессов, эзотерических опытов, опьянения или трансгрессии. В плане имманенции нужно стремиться к линии горизонта – из такого похода возвращаются с опаленными глазами, пусть даже это глаза духа. Даже и у Декарта есть своя греза. Мыслить – всегда значит идти колдовским путем. Таков, скажем, план имманенции у Мишо, с его неистовыми бесконечными движениями и скоростями. Чаще всего такого рода средства не проявляются в итоге мышления, каковой должен пониматься лишь сам по себе и на холодную голову. Но тогда «опасность» получает другой смысл – опасность очевидных последствий, наступающих тогда, когда чистая имманентность вызывает резкое инстинктивное осуждение со стороны общественного мнения, и это осуждение еще удваивается из-за природы создаваемых концептов. Ибо мы можем мыслить, лишь становясь чем-то иным, немыслящим, – животным, растением, молекулой, элементарной частицей, которые пересматривают нашу мысль и дают ей новый толчок.
План имманенции – это как бы срез хаоса, и действует он наподобие решета. Действительно, для хаоса характерно не столько отсутствие определенностей, сколько бесконечная скорость их возникновения и исчезновения; это не переход от одной определенности к другой, а, напротив, невозможность никакого соотношения между ними, так как одна возникает уже исчезающей, а другая исчезает едва наметившись. Хаос – это не инертно-стационарное состояние, не случайная смесь. Хаос хаотизирует, растворяет всякую консистенцию в бесконечности. Задача философии – приобрести консистенцию, притом не утратив бесконечности, в которую погружается мысль (в этом отношении хаос обладает как физическим, так и мысленным существованием). Придать консистенцию у ничего не потеряв из бесконечности, – это далеко не та же задача, что в науке, которая стремится придать хаосу референции ценой отказа от бесконечных движений и скоростей и изначального ограничения скорости; в науке первенствует свет, то есть относительный горизонт. Напротив того, философия исходит из предположения или из учреждения плана имманенции – в его переменной кривизне и сохраняются те бесконечные движения, которые возвращаются обратно к себе в процессе постоянного взаимообмена, но одновременно и высвобождают другие сохраняющиеся движения. Тогда делом концептов будет намечать интенсивные ординаты этих бесконечных движений, то есть движения сами по себе конечные, но с бесконечной скоростью формирующие переменные контуры, вписанные в план. Осуществляя сечение хаоса, план имманенции призывает к созданию концептов.
На вопрос: «Может ли и должна ли философия рассматриваться как явление древнегреческой цивилизации?» – первым ответом был сочтен такой: действительно, греческий полис предстает как новое сообщество «друзей», во всей двусмысленности этого слова. Жан-Пьер Вернан дает еще и второй ответ: греки первыми осознали, что Порядок строго имманентен такой космической среде, которая, подобно плоскому плану, делает срез хаоса. Если такой план-решето называть Логосом, то это далеко не то же, что просто «разум» (в том смысле, в каком говорят, что мир устроен разумно). Разум – всего лишь концепт, и притом слишком скудный, чтобы им определялись план и пробегающие его бесконечные движения. В общем, первыми философами были те, кто учредил план имманенции в виде сети, протянутой сквозь хаос. В этом смысле они противостояли Мудрецам – персонажам религии, жрецам, в понимании которых учреждаемый порядок всегда трансцендентен, устанавливается извне вдохновленным Эридой великим деспотом или величайшим из богов, в результате таких войн, перед которыми меркнет любой агон, и такой вражды, где изначально нет места испытаниям соперничества[19 - Ср.: Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensеe grecque, P.U.F., p. 105–125.]. Религия всегда там, где трансцендентность, вертикальное Бытие, имперское Государство на небесах или на земле, а философия всегда там, где имманентность, пусть даже она служит ареной для агона и соперничества (этого не опровергают и греческие тираны, так как они всецело на стороне сообщества друзей, проявляющегося сквозь все их безумнейшие и жесточайшие соперничества). Таким образом, обе возможных характеристики философии как специфически греческого явления, пожалуй, глубоко взаимосвязаны. Одни лишь друзья способны развернуть план имманенции, который, словно неверная почва, уходит из-под ног идолов. У Эмпедокла этот план чертит Филия, хотя ко мне она оборачивается другой стороной своего сгиба – Ненавистью, движением, которое стало негативным и свидетельствует о субтрансцендентности хаоса (вулкан) и супертрансцендентности божества. Возможно, что первые философы, и особенно Эмпедокл, еще были похожи на жрецов и даже на царей. Они носили маску мудрецов, и, по словам Ницше, как же было философии поначалу не маскироваться? Да и перестанет ли она когда-нибудь вообще в этом нуждаться? Коль скоро учреждение философии совпадает с предположением о префилософском плане, то почему же философии не воспользоваться этим, чтобы взять себе личину? Так или иначе, первые философы начертали план, непрестанно пробегаемый бесконечными движениями по обеим своим сторонам, одна из которых может быть охарактеризована как Physis, поскольку она дает материю для Бытия, а другая – как No?s, поскольку она дает образ для мысли. С наибольшей строгостью различение этих двух сторон проведено Анаксимандром, у которого движение качеств сочетается с могуществом абсолютного горизонта – Apeiron, или Беспредельного, – но в одном и том же плане. Философ осуществляет массовый захват мудрости, ставит ее на службу чистой имманентности. Генеалогию он заменяет геологией.
ПРИМЕР III
Нельзя ли рассматривать всю историю философии как учреждение того или другого плана имманенции? При этом выделялись бы физикалисты, делающие акцент на материи Бытия, и ноологисты – для них главное образ мысли. Однако сразу же возникает опасность путаницы: уже не сам план имманенции образовывает данную материю Бытия или данный образ мысли, но имманентность приписывается «чему-то» в дательном падеже, будь то Материя или Дух. У Платона и его последователей это стало очевидным. Вместо того чтобы план имманенции образовывал Всецелость, имманентность оказывается имманентной Единому (в дательном падеже), то есть на то Единое, в котором простирается и которому присваивается имманентность, накладывается другое Единое, на сей раз трансцендентное; по ту сторону каждого Единого появляется еще Единое – это и есть формула неоплатоников. Всякий раз когда имманентность толкуют как имманентную «чему-то», происходит смешение плана и концепта, так что концепт оказывается трансцендентной универсалией, а план – атрибутом внутри концепта. Превратно истолкованный таким образом план имманенции вновь порождает трансцендентность – отныне он просто поле феноменов, которое лишь во вторичном владении обладает тем, что изначально принадлежит к трансцендентному единству.
В христианской философии ситуация еще более ухудшилась. Полагание имманентности осталось чисто философским учреждением, но теперь оно оказывается терпимо лишь в очень малых дозах, оно строго контролируется и обставляется со всех сторон требованиями эманативной и особенно креативной трансцендентности. Рискуя судьбой своего творчества, а то и собственной жизнью, каждый философ вынужден доназывать, что вводимая им в мир и дух доза имманентности не подрывает трансцендентности Бога, которому имманентность может быть присвоена лишь вторично (Николай Кузанский, Экхарт, Бруно). Религиозная власть требует, чтобы имманентность допускалась лишь местами или на промежуточном уровне, примерно как в каскадных фонтанах, где вода может недолго пребывать, «имманировать» на каждой ступени, но лишь при том условии, что она проистекает из более высокого источника и стекает еще ниже (как выразился бы Валь, это трансасценденция и трансдесценденция). Можно считать, что имманентность – это актуальнейший пробный камень любой философии, так как она берет на себя все опасности, с которыми той приходится сталкиваться, все осуждения, гонения и отречения, которые та претерпевает. Чем, кстати, доказывается, что проблема имманентности – не абстрактная и не чисто теоретическая. На первый взгляд непонятно, почему имманентность столь опасна, но тем не менее это так. Она поглощает без следа мудрецов и богов. Философа узнают по тому, что он отдает на откуп имманентности – словно на откуп огню. Имманентность имманентна только себе самой, и тогда уж она захватывает все, вбирает в себя Всецелость и не оставляет ничего такого, чему она могла бы быть имманентна. По крайней мере, всякий раз когда имманентность толкуют как имманентную «Чему-то», можно быть уверенным, что этим «Чем-то» вновь вводится трансцендентное.
Начиная с Декарта, а затем у Канта и Гуссерля, благодаря cogito появилась возможность трактовать план имманенции как поле сознания. Иными словами, имманентность стали считать имманентной чистому сознанию, мыслящему субъекту. У Канта этот субъект называется трансцендентальным, а не трансцендентным – именно потому, что это субъект поля имманенции любого возможного опыта, которым покрывается все, как внешнее, так и внутреннее. Кант отвергает всякое трансцендентное применение синтеза, зато он относит имманентность к субъекту синтеза как новому, субъективному единству. Он даже может позволить себе роскошь разоблачения трансцендентных Идей, сделав из них «горизонт» поля, имманентного субъекту[20 - Кант, «Критика чистого разума»: пространство как форма внешнего чувства точно так же заключено «в нас», как и время – форма внутреннего чувства («Критика четвертого паралогизма»). Об Идее как «горизонте» см. «Приложение к трансцендентальной диалектике».]. Но при всем том Кант находит новейший способ спасения трансцендентности: теперь это уже будет не трансцендентность Чего-то или же Единого, стоящего выше всех вещей (созерцание), а трансцендентность Субъекта, которому поле имманенции присваивается лишь постольку, поскольку принадлежит некоему «я», необходимо представляющему себе данный субъект (рефлексия). Мир греческой философии, не принадлежавший никому, все более и более переходит в собственность христианского сознания.
Остается следующий шаг: когда имманентность становится имманентна трансцендентальной субъективности (в дательном падеже), то в ее собственном поле должна появиться метка или шифр трансцендентности как акта, отсылающего теперь уже к другому «я», к другому сознанию (коммуникация). Так происходит у Гуссерля и многих его последователей, которые вскрывают в Другом или же в Плоти подземную работу трансцендентного внутри самой имманентности. У Гуссерля имманентность мыслится как имманентность текущего опыта субъективности (в дательном падеже), но поскольку этот чистый и даже стихийный опыт не всецело принадлежит тому «я», которое представляет его себе, то в этих самых зонах непринадлежности на горизонте вновь появляется что-то трансцендентное – то ли в форме «имманентно-первозданной трансцендентности» мира, заполненного интенциональными объектами, то ли как особо привилегированная трансцендентность интерсубъективного мира, населенного другими «я», то ли как объективная трансцендентность мира идей, наполненного культурными формациями и сообществом людей. Сегодня уже не довольствуются тем, чтобы мыслить имманентность как имманентную чему-то трансцендентному, – желают помыслить трансцендентность внутри имманентного у надеясь на разрыв в имманентности. Так, у Ясперса план имманенции получает глубочайшее определение как «всеохватывающее», но в дальнейшем это всеохватывающее оказывается лишь вулканическим бассейном для извержений трансцендентного. Греческий логос заменяется иудео-христианским «словом»; не довольствуясь больше присвоением имманентности трансцендентному, его заставляют отовсюду изливаться из нее. Не довольствуясь отсылкой имманентности к трансцендентному, желают, чтобы она сама отдавала его назад, выдавала, воспроизводила. Собственно, сделать это нетрудно, достаточно лишь остановить движение[21 - Raymond Bellour, L’entre-images, Ed. de la Diffеrence, p. 132: о связи между трансцендентностью и перерывом в движении, «фиксацией на образе».]. Как только останавливается движение бесконечности, трансцендентность оседает, чтобы затем вновь воспрянуть, взметнуться, вырваться на волю. Три типа Универсалий – созерцание, рефлексия, коммуникация – это как бы три века философии, Эйдетика, Критика и Феноменология, неотделимые от истории одной долгой иллюзии. В инверсии ценностей доходили даже до того, что убеждали нас, будто имманентность – это тюрьма (солипсизм…), из которой нас избавляет Трансцендентное.
Когда Сартр предположил существование безличностного трансцендентального поля, это вернуло имманентности ее права[22 - Sartre, La transcendance de l’Ego, Ed. Vrin (см. ссылку на Спинозу на с. 23).]. Говорить о плане имманенции становится возможно лишь тогда, когда имманентность не имманентна более ничему, кроме себя. Подобный план, возможно, представляет собой радикальный эмпиризм – в нем не представлен никакой текущий опыт, имманентный некоторому субъекту и индивидуализирующийся в том, что принадлежит некоторому «я». В нем представлены одни лишь события, то есть возможные миры как концепты, и Другие как выражения возможных миров или концептуальные персонажи. Событие не соотносит опыт с трансцендентным субъектом=Я, а, напротив, само соотносится с имманентным парящим полетом над бессубъектным полем; Другой не сообщает другому «я» трансцендентность, но возвращает всякое другое «я» в имманентность облетаемого поля. Эмпиризм знает одни лишь события и Других, поэтому он великий творец концептов. Его сила начинается с того момента, когда он дает определение субъекту, – субъект как габитус, привычка, не более чем привычка в поле имманентности, привычка говорить «Я»…
Что имманентность бывает имманентна лишь себе самой, то есть представляет собой план, пробегаемый движениями бесконечности и наполненный интенсивными ординатами, – это в полной мере сознавал Спиноза. Оттого он был настоящим королем философов – возможно, единственным, кто не шел ни на малейший компромисс с трансцендентностью, кто преследовал ее повсюду. Он создал движение бесконечности, а в последней книге «Этики», говоря о третьем роде познания, придал мысли бесконечные скорости. Здесь он сам достигает неслыханных скоростей, такой молниеносной лаконичности, что волей-неволей приходится говорить о музыке, вихрях, ветре и струнах. Он открыл, что свобода – в одной лишь имманентности. Он дал завершение философии, осуществив ее префилософское предположение. У Спинозы не имманентность относится к субстанции и модусам, а сами спинозовские концепты субстанции и модусов относятся к плану имманенции как к своей пресуппозиции. Этот план обращен к нам двумя своими сторонами – протяженностью и мышлением, а точнее, двумя потенциями – потенцией бытия и потенцией мысли. Спиноза – это та головокружительная имманентность, от которой столь многие философы тщетно пытаются избавиться. Созреем ли мы когда-нибудь для вдохновения Спинозы? Однажды такое случилось с Бергсоном – в начале его «Материи и памяти» начертан план как срез хаоса; это одновременно бесконечное движение непрерывно распространяющейся материи и образ постоянно и по праву роящейся чистым сознанием мысли (не имманентность имманентна сознанию, а наоборот).
План окружают иллюзии. Это не абстрактные ошибки и не просто результаты внешнего давления, а миражи мысли. Быть может, они объяснимы тяжестью нашего мозга, автоматической передачей в нем господствующих мнений, нашей неспособностью вынести бесконечные движения, совладать с бесконечными скоростями, грозящими нас разрушить (и тогда нам приходится останавливать движение, отдаваться в плен относительному горизонту)? Однако мы ведь и сами пробегаем план имманенции, находимся в абсолютном горизонте. А значит, иллюзии должны хотя бы отчасти исходить из самого плана, подниматься над ним словно туман над озером, словно испарения пресократизма, выделяемые постоянно происходящим в плане взаимопревращением стихий. Как писал Арто, «”план сознания”, то есть беспредельный план имманенции, – индейцы называют его ”сигури” – порождает также и галлюцинации, ошибочные восприятия, дурные чувства…»[23 - Artaud, Les Tarahumaras (Cuvres compl?tes, IX).]. Следовало бы составить перечень этих иллюзий, измерить их, как Ницше вслед за Спинозой составлял перечень «четырех великих заблуждений». Однако такой перечень бесконечен. Прежде всего – иллюзия трансцендентности, возможно предшествующая всем остальным (у нее два аспекта – имманентность делается имманентной чему-то, или же в самой имманентности вновь обнаруживается трансцендентность). Далее – иллюзия универсалий, когда концепты смешиваются с планом, причем такая путаница возникает, как только постулируется имманентность, имманентная чему-то, поскольку это «что-то» с необходимостью оказывается концептом; кажется, что универсалии что-то объясняют, тогда как они сами должны быть объяснены, и при этом впадают в тройную иллюзию – либо созерцания, либо рефлексии, либо коммуникации. Далее – иллюзия вечности, когда забывают, что концепты должны быть сотворены. Далее, иллюзия дискурсивности, когда концепты смешиваются с пропозициями… Отнюдь не следует считать, что все эти иллюзии логически сочленяются между собой наподобие пропозиций, но они взаимно перекликаются или отражаются и окутывают план плотным туманом.
План имманенции извлекает определения из хаоса, делая из них свои бесконечные движения или Анаграмматические черты. Можно и даже должно предполагать множественность планов, так как ни один из них не мог бы охватить весь хаос, не впадая в него сам, и так как в каждом содержатся лишь те движения, которые способны к общему сгибу. Если история философии являет нам так много совершенно разных планов, то это не только из-за иллюзий и их многообразия, не только потому, что каждый по-своему вновь и вновь восстанавливает трансцендентность, но и, глубже, потому, что каждый по-своему создает имманентность. Каждый план осуществляет отбор того, что по праву принадлежит мысли, но этот отбор меняется в зависимости от плана. Каждый план имманенции представляет собой Всецелость: она не частична, как множество научных объектов, не фрагментарна, как концепты, а дистрибутивна – это «всякое». В едином плане имманенции много страниц. И, сравнивая планы между собой, бывает даже нелегко определить в каждом случае, один план перед нами или несколько разных; был ли, скажем, общий образ мысли у досократиков, несмотря на все различия между Гераклитом и Парменидом? Можно ли говорить о едином плане имманенции или едином образе для так называемой классической мысли, развивающейся непрерывно от Платона до Декарта? Меняются ведь не только сами планы, но и способы их распределения. Можно ли, глядя с более удаленной или более близкой точки зрения, сгруппировать вместе разные страницы на протяжении достаточно долгого периода или же, напротив, выделить некоторые страницы из одного, казалось бы, общего плана? и откуда возьмутся такие точки зрения, вопреки абсолютному горизонту? Можно ли здесь удовольствоваться историцизмом, обобщенным релятивизмом? Во всех этих отношениях в план вновь проникает и вновь становится наиважнейшим вопрос о едином и множественном.
В пределе можно сказать, что каждый великий философ составляет новый план имманенции, приносит новую материю бытия и создает новый образ мысли, так что не бывает двух великих философов в одном и том же плане. Действительно, мы не можем представить себе великого философа, о котором не приходилось бы сказать: он изменил смысл понятия «мыслить», он стал (по выражению Фуко) «мыслить иначе». А когда у одного и того же автора выделяют несколько разных философий, так ведь это потому, что он сам переменил план, нашел еще один новый образ. Трудно не прислушаться к печальным словам Бирана незадолго до смерти: «пожалуй, я уже староват, чтобы начинать конструирование заново»[24 - B?ran. Sa vie et ses pensеes, Ed. Naville (1823), p. 357.]. А с другой стороны, вовсе не являются философами те чиновники от философии, которые не обновляют образ мысли и вообще не осознают такой проблемы, чья заемная мысль пребывает в блаженном неведении даже о тяжких трудах тех людей, кого сама выставляет своим образцом. Но тогда как же в философии можно понять друг друга, если это сплошные разрозненные страницы, которые то склеиваются вместе, то снова разделяются? Не получается ли, что мы обречены вычерчивать свой собственный план, не зная, с чьими планами он пересечется? Не значит ли это, что мы как бы заново создаем хаос? Именно по этой причине в каждом плане есть не только страницы, но и дыры, и сквозь них протекает туман, которым окружен план и в котором начертавший его философ порой сам же первый рискует заблудиться. Итак, обилие поднимающихся над планом туманов мы объясняем двояко. Прежде всего тем, что мысль невольно пытается истолковывать имманентность как имманентную чему-то, будь то великий Объект созерцания, или Субъект рефлексии, или же Другой субъект коммуникации; при этом фатальным образом вновь вводится трансцендентность. А кроме того, это неизбежно потому, что план имманенции, как видно, может претендовать на уникальность Плана, лишь восстанавливая тот самый хаос, который он был призван предотвратить: можете выбирать между трансцендентностью и хаосом…
ПРИМЕР IV
Когда план отбирает принадлежащее по праву мысли и делает из этого ее черты, интуиции, направления или диаграмматические движения, то прочие определения отбрасываются им как простые факты, характеристики состояний вещей, содержания нашего опыта. Разумеется, из этих состояний вещей философия еще может получить концепты, если только сумеет извлечь из них событие. Однако вопрос в другом. То, что по праву принадлежит мысли, то, что отобрано как диаграмматическая черта в себе, отторгает другие, конкурирующие определения (даже если они и призваны воспринять в себя концепт). Так, Декарт трактует заблуждение как черту или направление, выражающие по праву негативность мысли. Он не первым поступает так, и заблуждение может вообще рассматриваться как одна из главных черт классического образа мысли. В рамках такого образа отнюдь не игнорируется то, что мысли грозит и ряд других вещей: глупость, потеря памяти, утрата речи, бред, безумие… Но все эти определения рассматриваются лишь как факты, и по отношению к мысли из них может быть только одно имманентное следствие по праву – заблуждение, опять-таки заблуждение. Заблуждение – это то бесконечное движение, которое вбирает в себя всю негативность. Быть может, эта черта восходит еще к Сократу, для которого фактически злой человек есть по праву человек «ошибающийся»? Но хотя «Теэтет» – это обоснование заблуждения, все же вообще Платон признает права других, конкурирующих определений (например, в «Федре» это бред), так что образ мысли по Платону, на наш взгляд, намечает еще и много иных путей.
Не только в концептах, но и в образе мысли произошла большая перемена, когда при выражении негативности мысли заблуждение и предрассудок были заменены невежеством и суеверием; важную роль сыграл здесь Фонтенель, причем одновременно претерпели изменение бесконечные движения, в которых происходит как утрата, так и завоевание мысли. Тем более когда Кант отметил, что мышлению грозит не столько заблуждение, сколько неизбежные иллюзии, происходящие изнутри самого разума, из той его арктической области, где теряет направление стрелка любого компаса, – то при этом оказалась необходимой переориентация всей мысли, и одновременно в нее проникло некое по праву присутствующее бредовое начало. Отныне в плане имманенции мысли угрожают уже не ямы и ухабы по дороге, а северные туманы, которыми все окутано. Самый вопрос об «ориентации в мысли» меняет смысл.
Ни одна черта не может быть изолирована от других. В самом деле, движение, которому приписан отрицательный знак, само соединено общим сгибом с другими движениями, имеющими знак положительный или двойственный. В классическом образе заблуждение лишь постольку выражает собой по праву наихудшую опасность для мысли, поскольку сама мысль представляется «желающей» истины, ориентированной на истину, обращенной к истине; тем самым предполагается, что все знают, что значит мыслить, и все по праву способны мыслить. Такой несколько забавной доверчивостью и одушевлен классический образ: отношение к истине образует бесконечное движение знания как диаграмматическую черту. Напротив того, новое освещение, которое проблема получила в XVIII веке, – с переходом от «естественного света» к «Просвещению» – состоит в замене знания верой, то есть новым бесконечным движением, из которого вытекает иной образ мысли: отныне речь не о том, чтобы обращаться к чему-либо, а о том, чтобы идти за ним следом, не схватывать и быть захваченным, а делать умозаключения. При каких условиях заключение будет правильным? При каких условиях вера, ставшая профанной, может сохранить законность? Этот вопрос получил разрешение лишь с созданием основных концептов эмпиризма (ассоциация, отношение, привычка, вероятность, условность…), но и обратно – этими концептами, среди которых и сам концепт веры, предполагаются диаграмматические черты, которые сразу превращают веру в бесконечное движение, независимое от религии и пробегающее новый план имманенции (напротив того, религиозная вера становится концептуализируемым частным случаем, чью законность или незаконность можно измерить по шкале бесконечности). У Канта, несомненно, можно встретить немало таких черт, унаследованных от Юма, но они здесь претерпели еще одну глубокую перемену – в новом плане или согласно новому образу. Каждый такой шаг – великое дерзание. При переходе от одного плана имманенции к другому, когда по-новому распределяется принадлежащее по праву мысли, то меняются не только позитивные или негативные черты, но и черты двойственные по знаку, которые в некоторых случаях становятся все более многочисленными и более не довольствуются тем, чтобы своим сгибом повторять векторную оппозицию движений.
Если попытаться столь же суммарно обрисовать черты новоевропейского образа мысли, то в нем не будет торжества, даже и смешанного с отвращением. Ни один образ мысли не может обойтись отбором одних лишь спокойных определений, все они сталкиваются с чем-нибудь по праву отталкивающим – будь то заблуждение, в которое мысль непрестанно впадает, либо иллюзия, где она постоянно вертится по кругу, либо глупость, в которой она то и дело норовит погрязнуть, либо бред, в котором она вновь и вновь удаляется от себя самой или же от божества. Уже в греческом образе мысли предусматривалось это безумие двойного искажения, когда мысль впадает не столько в заблуждение, сколько в бесконечное блуждание. Среди двойственностей бесконечного движения мысль никогда не соотносилась с истиной простым, а тем более неизменным способом. Поэтому, желая определить философию, напрасно обращаться к подобному соотношению, Первейшей чертой новоевропейского образа мысли стал, возможно, полный отказ от такого соотношения: теперь считается, что истина – это всего лишь создаваемое мыслью с учетом плана имманенции, который она считает предполагаемым, и всех черт этого плана, негативных и позитивных, которые становятся неразличимыми между собой; как сумел внушить нам Ницше, мысль – это творчество, а не воля к истине. А если теперь, в отличие от классического образа мысли, больше нет воли к истине, то это оттого, что мысль составляет лишь «возможность» мыслить, которая еще не позволяет определить мыслителя, «способного» мыслить и говорить «Я»; необходимо насильственное воздействие на мысль, чтобы мы сделались способны мыслить, – воздействие некоего бесконечного движения, которое одновременно лишает нас способности говорить «Я». Эта вторая черта новоевропейского образа мысли изложена в ряде знаменитых текстов Хайдеггера и Бланшо. Третья же черта его в том, что такое «Не-могущество» мысли, сохраняющееся в самом ее сердце даже после того как она обрела способность, определимую как творчество, – есть не что иное, как множество двойственных знаков, которые все более нарастают, становятся диаграмматическими чертами или бесконечными движениями, обретая значимость по праву, тогда как до сих пор они были лишь ничтожными фактами и в прежних образах мысли отбрасывались при отборе; как показывают Клейст и Арто, сама мысль как таковая начинает скалиться, скрипеть зубами, заикаться, издавать нечленораздельные звуки и крики, и все это влечет ее к творчеству или же к попыткам его[25 - Cf. Kleist, «De l’еlaboration progressive des idеes dans le discours» (Anecdotes et petits еcrits, Ed. Payot, p. 77); Artaud, «Correspondance avec Rivi?re» (Cuvres compl?tes, I).]. Мысль ищет – но не как человек, обладающий методом поиска, а скорее как пес, который на взгляд со стороны беспорядочно мечется из стороны в сторону… Не стоит бахвалиться подобным образом мысли: в нем много бесславных страданий, и он показывает, насколько труднее сделалось мыслить: такова имманентность.
Историю философии можно сравнить с искусством портрета. Задача здесь – не «написать схоже», то есть повторить сказанное философом, а создать сходство, одновременно показав учрежденный им план имманенции и сотворенные им новые концепты. Получается портрет умственный, ноэтический, машинный. И хотя обычно такие портреты пишут средствами философии, их можно создавать и эстетически. Так, недавно Тенгли выставлял монументальные машинные портреты философов, где осуществляются мощные бесконечные движения, совместные или взаимно чередующиеся, свертывающиеся и развертывающиеся, где звуки, вспышки, материи бытия и образы мысли распределены согласно планам сложной кривизны[26 - Тенгли, каталог выставки в Бобуре, 1989.]. И все же – если нам будет позволено покритиковать столь великого художника – его попытка, как кажется, еще не доведена до конца. В его Ницше нет ничего танцующего, при том что в других своих работах Тенгли умел прекрасно передавать танец машин. Портрет Шопенгауэра не открывает ничего главного, тогда как его четыре Корня и покрывало Майи, казалось, так и просятся занять собой двуликий план Мира как воли и представления. У Хайдеггера не сохранилось никакой потаенности-непотаенности в плане еще не мыслящей мысли. Возможно, следовало бы уделять больше внимания плану имманенции, начертанному как абстрактная машина, и концептам как деталям этой машины. В этом смысле можно было бы вообразить следующий машинный портрет Канта, включающий в себя все вплоть до его иллюзий:
1. – «Я мыслю» с бычьей головой, озвученное изображение, непрестанно твердящее «я = я». 2. – Категории как универсальные концепты (четырех основных разрядов) – экстенсивные щупальца, втягивающиеся внутрь в зависимости от кругового движения 3. – Крутящееся колесо схем. 4. – Неглубокий ручей Времени как формы внутреннего чувства, в который частично погружено колесо схем. 5. – Пространство как форма внешнего чувства – берега и дно. 6. – Пассивное «я» на дне ручья, как точка соединения этих двух форм. 7. – Принципы синтетических суждений, пробегающие пространство-время. 8. – Трансцендентальное поле возможного опыта, имманентное моему «Я» (план имманенции). 9. – Три Идеи, или иллюзии трансцендентности (круги, вращающиеся в абсолютном горизонте, – Душа, Мир и Бог).
Существует немало проблем, касающихся не только истории философии, но в равной мере и самой философии. Страницы плана имманенции то разделяются вплоть до противопоставления друг другу, когда каждая из них соответствует тому или иному конкретному философу, то, напротив, соединяются, покрывая как минимум весьма долгие исторические периоды. Кроме того, сложны и сами отношения между учреждением префилософского плана и созданием философских концептов. На протяжении длительного периода философы могут создавать новые концепты, оставаясь в том же плане и имея в виду тот же образ, что и кто-либо из прежних философов, которого они объявляют своим учителем; таковы Платон и неоплатоники, Кант и неокантианцы (или даже реактуализация некоторых частей платонизма у самого Канта). Вместе с тем, однако, они продлевают первоначальный план и придают ему новую кривизну, так что все время приходится гадать: не есть ли это уже другой план, вплетенный в ткань первоначального? Таким образом, вопрос о том, в каких случаях и до какой степени одни философы являются «учениками» другого, а в каких случаях, напротив, ведут его критику, меняя план и создавая иной образ, – этот вопрос требует сложных и относительных оценок, тем более что занимающие план концепты никогда не поддаются простой дедукции. Концепты, которые поселяются в одном и том же плане (пусть даже в самое разное время и каждый по-своему присоединяясь к остальным), мы будем называть концептами одной группы; и наоборот – если концепты отсылают к различным планам. Между творчеством концептов и учреждением плана имеется строгое соответствие, но оно возникает под влиянием косвенных отношений, которые еще предстоит определить.
Можно ли сказать, что один план «лучше» другого, или хотя бы что он отвечает или не отвечает требованиям эпохи? Но что значит отвечать требованиям, и какое отношение существует между диаграмматическими движениями или чертами того или иного образа мысли и социоисторическими движениями или чертами той или иной эпохи? Решение этих проблем может продвинуться вперед лишь при том условии, что мы откажемся от узко исторического взгляда на «до» и «после» и будем рассматривать не столько историю философии, сколько время философии. Это стратиграфическое время, где «до» и «после» обозначают всего лишь порядок напластований. Некоторые дороги (движения) обретают свой смысл и направление лишь в качестве спрямлений или окольных путей по отношению к уже исчезнувшим; переменная кривизна может предстать только преобразованием одной или нескольких других; тот или иной пласт или страница плана имманенции с необходимостью оказывается выше или ниже других, а образы мысли не могут возникать в каком угодно порядке, так как в них внутренне заложена переориентация, непосредственно заметная лишь на фоне прежнего образа (да и для концептов определяющая их точка конденсации предполагает либо раздробление прежней точки, либо слияние нескольких прежних). Умственный пейзаж не меняется на протяжении веков как придется: если ныне плоская и сухая почва являет тот или иной вид и текстуру – значит, еще недавно здесь возвышалась гора, а там протекала река. Правда, на поверхность могут выходить и очень древние пласты, пробиваясь сквозь покрывшие их образования и непосредственно воздействуя на нынешний пласт, которому они сообщают новую кривизну. Более того, в разных областях плана напластования могут быть неодинаковыми и чередоваться в различном порядке. Таким образом, философское время – это время всеобщего сосуществования, где «до» и «после» не исключаются, но откладываются друг на друга в стратиграфическом порядке. Это и есть бесконечное становление философии, которое пересекается с ее историей, но не совпадает с нею. Жизнь философов и наиболее внешние моменты их творчества подчиняются обычным законам временной последовательности; однако их имена сосуществуют между собой и блистают либо путеводными звездами, помогающими нам вновь и вновь проходить по составляющим концепта, либо направляющими ориентирами того или иного пласта или страницы; их свет не перестает доходить до нас, подобно свету угасших звезд, еще ярче чем прежде. Философия – это становление, а не история, сосуществование планов, а не последовательность систем.
Поэтому планы могут то разделяться, то соединяться – правда, это бывает и к добру и не к добру. Всем им свойственно реставрировать трансцендентность и иллюзию (они не в силах удержаться от этого), но также и ожесточенно бороться с ними, причем каждый план делает и то и другое по-своему. Существует ли «лучший» план, который не отдавал бы имманентность Чему-то = х, и не изображал бы больше ничего трансцендентного? Можно сказать, что «настоящий» План имманенции – это нечто такое, что должно быть мыслимо и не может быть мыслимо. Очевидно, это и есть немыслимое в мысли. Это основа всех планов, имманентная каждому мыслимому плану, которому не дано самому ее помыслить. Это самое сокровенное в мысли, и в то же время абсолютно внешнее. Будучи внешним, он отдаленнее любого внешнего мира, потому что он еще и внутреннее, которое глубже любого внутреннего мира; такова имманентность, «сокровенность как Внешнее, внешнее, ставшее удушающим вторжением внутрь, и взаимопревращение одного и другого»[27 - Blanchot, Uentretien infini, Gallimard, р. 65. О немыслимом в мысли см.: Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, p. 333–339. Cp. также «внутреннюю даль» y Мишо.]. Челночный ход плана – бесконечное движение. Пожалуй, в этом и заключается высший жест философии – не столько мыслить «настоящий» План имманенции, сколько показывать, что он наличествует, немыслимый, в каждом плане. А тем самым и мыслить его – как внешнее и внутреннее по отношению к мысли; внешнее, которое не снаружи, и внутреннее, которое не внутри. То, что не может быть и вместе с тем должно быть мыслимо, было однажды помыслено, подобно тому как однажды воплотился Христос, дабы тем самым показать возможность невозможного. Таким Христом философов является Спиноза, а другие величайшие философы скорее лишь апостолы, которые кто ближе, кто дальше от этого таинства. Спиноза – бесконечное становление-философом. Он показал, составил, помыслил «лучший» план имманенции – то есть самый чистый, который не отдается во власть трансцендентности и не привносит вновь трансцендентного, который внушает меньше всего иллюзий, дурных чувств и ошибочных восприятий…
3. Концептуальные персонажи
ПРИМЕР V
Cogito Декарта сотворено как концепт, однако у него есть пресуппозиции. Не в том смысле, в каком один концепт предполагает другие (например, «человек» предполагает «животное» и «разумное»). Здесь пресуппозиции имплицитны, субъективны, преконцептуальны и формируют образ мысли: все знают, что значит мыслить. Все обладают возможностью мыслить, все желают истины… А есть ли что-то другое, кроме этих двух элементов – концепта и плана имманенции, то есть образа мысли, который должны занять концепты одной группы (cogito и сочетаемые с ним концепты)? Есть ли в случае Декарта что-то иное, кроме сотворенного cogito и предполагаемого образа мысли? Да, есть и нечто иное, несколько таинственное, появляющееся или проявляющееся по временам, обладающее зыбким существованием где-то между концептом и преконцептуальным планом, движущееся между тем и другим. В данном случае это Идиот: именно он говорит «Я», именно он провозглашает cogito, но он же и обладает субъективными пресуппозициями, то есть чертит план. Идиот – это частный мыслитель, противостоящий публичному профессору (схоласту): профессор все время ссылается на школьные концепты (человек – разумное животное), частный же мыслитель формирует концепт из врожденных сил, которыми по праву обладает каждый сам по себе (я мыслю). Таков весьма странный тип персонажа – желающий мыслить и мыслящий самостоятельно, посредством «естественного света». Идиот – это концептуальный персонаж. Теперь мы можем точнее ответить на вопрос о том, имелись ли у cogito предшественники. Откуда взялся этот персонаж идиота – может быть, он возник в христианской атмосфере, но в качестве реакции против «схоластической» организации христианства, против авторитарной церковной организации? А может быть, его следы найдутся уже у блаженного Августина? Быть может, свою полную значимость концептуального персонажа он получил у Николая Кузанского – в силу чего этот философ близко подошел к cogito, хоть еще и не добился его кристаллизации в концепт[28 - Об идиоте (профане, отдельном частном лице в противоположность технику и ученому) в его отношениях к мысли см.: Nicolas de Cuse, Idiota (Cuvres choisies par M. de Gandillac, Ed. Aubier). Эти три персонажа повторяются и у Декарта (Евдокс-идиот, Полиандр-техник и Эпистемон – публичный ученый): Descartes, La recherche de la vеritе par la lumi?re naturelle (Cuvres philosophiques, Ed. Alquiе, Garnier, II). О причинах, по которым Николай Кузанский не дошел до cogito, см.: Gandillac, р. 26.]
Напрасно спрашивать себя, прав Декарт или не прав. Действительно ли субъективно-имплицитные пресуппозиции лучше объективно-эксплицитных? Нужно ли вообще с чего-то «начинать», а если нужно, то обязательно ли с точки зрения субъективной достоверности? И может ли при этом «мышление» служить сказуемым при некотором «Я»? Прямого ответа нет. Картезианские концепты могут быть оценены только в зависимости от проблем, на которые отвечают, и от плана, в котором происходят. Вообще говоря, если создававшиеся ранее концепты могли лишь подготовить, но не образовать новый концепт – значит, их проблема еще не выделилась из других, а их план еще не получил необходимую кривизну и движения. Если же концепты могут заменяться другими, то лишь при условии новых проблем и нового плана, по отношению к которым не остается, например, никакого смысла в «Я», никакой необходимости в начальной точке, никакого различия между пресуппозициями (или же возникают другие смыслы, необходимости, различия). Концепт всегда обладает той истиной, которую получает в зависимости от условий своего создания. Бывает ли, что один план лучше другого, а одни проблемы настоятельнее других? На сей счет решительно ничего нельзя сказать. Просто следует строить планы и ставить проблемы, так же как следует творить концепты. Философ старается работать как можно лучше, но ему не до того, чтобы выяснять, самое ли это лучшее, и даже не до того, чтобы вообще интересоваться таким вопросом. Разумеется, новые концепты должны соотноситься с нашими проблемами, нашей историей и особенно с нашими становлениями. Но что значат «концепты нашего времени» или же вообще какого-либо времени? Концепты не вечны, но разве это делает их временными? Что такое философская форма проблем нашего времени? Концепт бывает «лучше» прежнего в том смысле, что позволяет расслышать новые вариации и неведомые переклички, производит непривычные членения, приносит с собой парящее над нами Событие. Но разве не то же самое делал и прежний концепт? И можно даже сегодня оставаться платоником, картезианцем или кантианцем, ибо вполне правомерно считать, что их концепты способны вновь заработать применительно к нашим проблемам и одушевить собой те концепты, которые еще предстоит создать. И кто лучший последователь великих философов – тот, кто повторяет то, что они говорили, или же тот, кто делает то, что они делали, то есть создает концепты для необходимо меняющихся проблем?
Поэтому у философа очень мало вкуса к дискуссиям. Услышав фразу «давайте подискутируем», любой философ убегает со всех ног. Спорить хорошо за круглым столом, но философия бросает свои шифрованные кости на совсем иной стол. Самое малое, что можно сказать о дискуссиях, это что они не продвигают дело вперед, так как собеседники никогда не говорят об одном и том же. Какое дело философии до того, что некто имеет такие-то взгляды, думает так, а не иначе, коль скоро остаются невысказанными замешанные в этом споре проблемы? А когда эти проблемы высказаны, то тут уж надо не спорить, а создавать для назначенной себе проблемы бесспорные концепты. Коммуникация всегда наступает слишком рано или слишком поздно, и беседа всегда является лишней по отношению к творчеству. Иногда философию представляют себе как вечную дискуссию, в духе «коммуникационной рациональности» или «мирового демократического диалога». Нет ничего более неточного; когда один философ критикует другого, то делает это исходя из чуждых ему проблем и в чуждом ему плане, переплавляя его концепты, подобно тому как можно переплавить пушку, отлив из нее новое оружие. Спорящие всегда оказываются в разных планах. Критиковать – значит просто констатировать, что старый концепт, погруженный в новую среду, исчезает, теряет свои составляющие или же приобретает другие, которые его преображают. А те, кто занимается нетворческой критикой, кто ограничивается защитой исчезающего концепта, не умея придать ему сил к возрождению, – для философии такие суть истинное бедствие. Все эти специалисты по дискуссиям и коммуникации движимы обидой. Сталкивая друг с другом пустые общие словеса, они говорят лишь сами о себе. Философия же не выносит дискуссий. Ей всегда не до них. Спор для нее нестерпим не потому, чтобы она была так уж уверена в себе; напротив, именно неуверенность влечет ее на новые, более одинокие пути. Но разве Сократ не превратил философию в вольную дружескую дискуссию? Разве это не вершина греческой общительности – беседы свободных людей? На самом деле Сократ постоянно занимался тем, что делал невозможной всякую дискуссию – будь то в краткой форме агона (вопросов и ответов) или в длинной форме соперничающих между собой речей. Из друга он сделал исключительно друга концепта, а из самого концепта – безжалостный монолог, устраняющий одного соперника за другим.
ПРИМЕР II
Мастерство Платона в построении концепта хорошо видно на примере «Парменида». В Едином есть две составляющих (бытие и небытие), есть несколько фаз этих составляющих (Единое большее бытия, равное бытию, меньшее бытия; Единое большее небытия, равное небытию), есть зоны неразличимости (по отношению к себе, по отношению к другим). Это настоящий образец концепта.
Но не предшествует ли Единое всякому концепту? Здесь Платон учит одному, а сам делает обратное: он творит концепты, но ему нужно полагать их как репрезентацию того несотворенного, что им предшествует. В свой концепт он включает время, но это время должно быть Предшествующим. Он конструирует концепт – но как свидетельство некоторой предсуществующей объектности, в форме временного различия, которым может измеряться удаленность или близость подразумеваемого конструктора. Дело в том, что в плане Платона истина полагается в качестве предполагаемой, уже присутствующей. Именно такова Идея. В платоновском концепте Идеи первичность получает смысл совершенно точный и совершенно отличный от того, какой она будет иметь у Декарта: это то, что объективно обладает чистым качеством, или то, что не является ничем другим кроме того, что оно есть. Одна лишь Справедливость справедлива, одно лишь Мужество мужественно – это и есть Идеи, и в этом смысле Идея матери существует, если есть такая мать, которая является только матерью (которая не была бы сама еще и дочерью), или Идея волоса – если есть такой волос, который был бы только волосом (и не был бы также кремнием). Понятно, что вещи, напротив, всегда являются еще и чем-то иным, чем то, что они есть: то есть в лучшем случае они имеют качество во вторичном владении, они могут лишь претендовать на него, и лишь постольку, поскольку причастны Идее. А раз так, у концепта Идеи оказываются следующие составляющие: обладаемое качество (или же качество, которым требуется обладать); Идея, обладающая первичным владением, без всякой причастности; то, что претендует на качество и может обрести его лишь во вторичное (третичное, четвертичное…) владение; Идея, к которой причастны другие и которая судит о достоинствах претендентов. Это, можно сказать, Отец, отец-двойник, дочь и претенденты на ее руку. Таковы интенсивные ординаты Идеи; притязания претендента могут основываться лишь на соседстве, на более или менее тесной близости, которую он «имел» по отношению к Идее, паря над нею в некотором прошлом – обязательно прошлом – времени. В этой своей форме прошлости время принадлежит к концепту, образует как бы его зону. Само собой разумеется, что картезианское cogito не могло развиться в этом греческом плане, на почве платонизма. До тех пор, пока сохранялось предсуществование Идеи (хотя бы в христианской форме прообразов в разуме Божьем), cogito могло лишь подготавливаться, но не сложиться окончательно. Для того чтобы Декарт создал этот концепт, «первичность» должна была совершенно переосмыслиться, приняв субъективный смысл, и должна была уничтожиться всякая разница во времени между идеей и формирующей ее душой-субъектом (поэтому так важно критическое замечание Декарта по поводу анамнесиса – когда он пишет, что врожденные идеи существуют не «до», а «одновременно» с душой). Следовало добиться едино-временности концепта и сделать так, чтобы даже истины создавались Богом. Сама природа притязаний должна была измениться – претендент уже не получает руку дочери от ее отца, но завоевывает ее сам, своими собственными рыцарскими подвигами… своим собственным методом. С этой точки зрения мы должны были бы и выяснять, мог ли Мальбранш (а если да, то какой ценой) вновь привести в действие составляющие платоновского концепта, оставаясь в безупречно декартовском плане. Здесь, однако, мы хотели лишь показать, что в концепте всегда есть составляющие, способные воспрепятствовать возникновению другого концепта или, наоборот, способные сами возникнуть лишь ценой исчезновения других концептов. Тем не менее концепт никогда не ценится по тому, чему он препятствует; он ценится только по своему собственному ни с чем не сравнимому положению и сотворению.
Предположим, что к концепту добавили лишнюю составляющую; вполне вероятно, что от этого он взорвется или же совершенно преобразится; возможно, следствием этого явится новый план, и во всяком случае новые проблемы. Так случилось с кантовским cogito. Да, Кант конструирует «трансцендентальный» план, где сомнение делается ненужным, а природа пресуппозиций вновь меняется. Однако именно в силу такого плана он может заявить, что хотя «я мыслю» является определением и в этом смысле уже предполагает некое неопределенное существование («я существую»), но зато еще неизвестно, каким образом это неопределенное оказывается определяемым, а равно и в какой форме оно предстает определенным. Итак, Кант «критикует» Декарта за то, что тот сказал «я – мыслящая субстанция», поскольку подобное притязание Я ничем не обосновано. Кант требует введения в cogito новой составляющей – той самой, что отверг Декарт, а именно времени, ибо только во времени мое неопределенное существование оказывается определяемым. Однако я определен во времени только как пассивно-феноменальное «я», постоянно подвергающееся внешним воздействиям, изменениям, вариациям. Теперь, стало быть, в cogito оказывается четыре составляющих: я мыслю, и в этом смысле я активен; я обладаю существованием; это существование определяемо лишь во времени, как существование пассивного «я»; следовательно, я определен как пассивное «я», необходимо представляющее себе свою мыслительную активность как воздействующего на него Другого. Это не другой субъект, а скорее тот же субъект, ставший другим… Не есть ли это путь к превращению «я» в другого? Не предвестие ли это формулы «Я – это другой»? Такой новый синтаксис, с новыми ординатами, новыми зонами неразличимости, которые обеспечены схемой, а также воздействием «я» на самого себя, – все это делает неделимыми «Я» (Je) и «я» (Moi).
Если Кант «критикует» Декарта, то это всего лишь значит, что он построил такой план и поставил такую проблему, которых не может заполнить или осуществить картезианское cogito. Декарт создал cogito как концепт, исключив время как форму прошлости, сделав его простой формой последовательности, связанной с продолжающимся творчеством концепта. Кант вновь вводит время в cogito, но это уже совсем иное время, чем время платоновского предшествования. Создается новый концепт. Кант делает время одной из составляющих нового cogito, но для этого он должен представить и новый концепт времени: время становится формой внутренности, в которой три составляющих – последовательность, а также одновременность и постоянность. А отсюда следует и новый концепт пространства, который уже не может определяться простой одновременностью, но становится формой внешности. Тем самым происходит решительный переворот. Пространство, время, «Я мыслю» – это три оригинальных концепта, связанные между собой мостами-перекрестками. Целый шквал новых концептов. История философии требует оценивать не только историческую новизну концептов, созданных тем или иным философом, но и силу их становления в процессе их взаимопереходов.
Мы всюду обнаруживаем один и тот же педагогический статус концепта – это множественность, абсолютная автореференциальная поверхность или объем, составленные из некоторого числа интенсивных вариаций, нераздельно связанных между собой в порядке соседства и пробегаемых некоторой точкой, находящейся в состоянии парящего полета. Концепт – это контур, конфигурация, констелляция некоторого будущего события. В этом смысле концепты по праву принадлежат философии, так как именно она их вновь и вновь творит. Концепт – это, разумеется, познание, но только самопознание, и познается в нем чистое событие, не совпадающее с тем состоянием вещей, в котором оно воплощается. Всякий раз выделять событие из вещей и живых существ – такова задача философии, когда она создает концепты и целостности. Строить из вещей и живых существ новое событие, придавать им все новые и новые события – пространство, время, материю, мышление, возможность как события…
Напрасно пытаться наделять концептами науку: даже когда она занимается теми же самыми «объектами», то не с точки зрения концепта, не создавая концептов. Могут возразить, что это спор о словах, но в словах почти всегда содержатся определенные интенции и уловки. Это был бы чистый спор о словах, если бы решили закрепить понятие концепта только за наукой, найдя при этом иное слово для обозначения того, чем занимается философия. Чаще же всего поступают иначе. Сначала науке приписывают способность создавать концепты, определяют концепт через творческие приемы науки, меряют его наукой, а потом задаются вопросом, нет ли возможности и для философии формировать некие концепты второго порядка, возмещающие свою неполноценность расплывчатой отсылкой к жизненному опыту. Так, Жиль-Гастон Гранже сначала определяет концепт как научную пропозицию или функцию, а потом признает, что возможны все-таки и философские концепты, в которых референциальная связь с объектом заменяется корреляцией с «целостностью опыта»[12 - Gilles-Gaston Granger, Pour la connaissance philosophique, Ed. Odile Jacob, ch. VI. 40]. На самом же деле одно из двух: либо философия вообще ведать не ведает о концепте, либо она ведает им по праву и из первых рук, ничего не оставляя на долю науки, – которая в этом, впрочем, и не нуждается, занимаясь только состояниями вещей и их условиями. Науке достаточно пропозиций и функций, а философия, со своей стороны, не имеет нужды обращаться к какому-либо опыту, способному придать лишь призрачно-внешнюю жизнь вторичным, внутренне бескровным концептам. Философский концепт не нуждается в компенсирующей референции к опыту, но сам, в силу своей творческой консистенции, создает событие, парящее над всяким опытом, как и над всяким состоянием вещей. Каждый концепт по-своему кроит и перекраивает это событие. Величие той или иной философии измеряется тем, к каким событиям призывают нас ее концепты, или же тем, какие события мы способны вычленить из концептов благодаря ей. Поэтому следует изучать во всех деталях ту уникальную, исключительную связь, которую имеют концепты с философией как творческой дисциплиной. Концепт принадлежит философии и только ей одной.
2. План имманенции
Философские концепты – это фрагментарные единства, не пригнанные друг к другу, так как их края не сходятся. Они скорее возникают из бросаемых костей, чем складываются в мозаику. Тем не менее они перекликаются, и творящая их философия всегда представляет собой могучее Единство – нефрагментированное, хотя и открытое; это беспредельная Всецелость, Omnitudo, вбирающая их все в одном и том же плане. Это как бы стол, поднос, чаша. Это и есть план консистенции или, точнее, план имманенции концептов, планомен. Концепты и план строго соответствуют друг другу, но их тем более точно следует различать. План имманенции – это не концепт, даже не концепт всех концептов. Если смешивать их между собой, то ничто не сможет помешать всем концептам слиться в один или же стать универсалиями, когда они теряют свою единичность, а план имманенции – свою открытость. Философия – это конструирование, а конструирование включает два взаимодополнительных и разноприродных аспекта – создание концептов и начертание плана. Концепты – это как множество волн, которые вздымаются и падают, тогда как план имманенции – это та единственная волна, которая их свертывает и развертывает. План облекает собой бесконечные движения, пробегающие его вперед и назад, а концепты – это бесконечные скорости конечных движений, которые всякий раз пробегают лишь свои собственные составляющие. От Эпикура до Спинозы (великолепная книга V…), от Спинозы до Мишо проблемой мысли является бесконечная скорость, но для такой скорости нужна среда, которая сама в себе бесконечно подвижна, – план, пустота, горизонт. Требуется эластичность концепта, но вместе с ней и текучесть среды[13 - Об эластичности концепта см.: Hubert Damisch, Prеface ? Prospectus de Dubuffet, Gallimard, I, p. 18, 19.]. Требуется и то и другое вместе, чтобы образовались «медленные существа», то есть мы.
Концепты напоминают архипелаг островов или же костяк – скорее позвоночный столб, чем черепную коробку, – тогда как план подобен дыханию, овевающему эти изолированные островки. Концепты – это абсолютные поверхности или объемы, неправильные по форме и фрагментарные по структуре, тогда как план представляет собой абсолютную беспредельность и бесформенность, которая не есть ни поверхность ни объем, но всегда фрактальна. Концепты – это конкретные конструкции, подобные узлам машины, а план – та абстрактная машина, деталями которой являются эти конструкции. Концепты суть события, а план – горизонт событий, резервуар или же резерв чисто концептуальных событий; это не относительный горизонт, функционирующий как предел, меняющийся в зависимости от положения наблюдателя и охватывающий поддающиеся наблюдению состояния вещей, но горизонт абсолютный, который независим от какого-либо наблюдателя и в котором событие, то есть концепт, становится независимым от видимого состояния вещей, где оно может совершаться[14 - Жан-Пьер Люмине различает горизонты относительные – как, например, земной горизонт, имеющий в своем центре наблюдателя и перемещающийся вместе с ним, и абсолютный горизонт, «горизонт событий», независимый от всякого наблюдателя и разделяющий все события на две категории – события видимые и невидимые, сообщаемые и несообщаемые (Jean-Pierre Luminet, «Le trou noir et l’infini», in Les dimensions de l’infini, Institut culturel italien de Paris). Отсылаем также к тексту дзен-буддистского монаха, где упоминается горизонт как «резерв» событий: D?gen, Sh?bogenzo, Ed. de la Diffеrence, traduction et commentaires de Renе de Ceccaty et Nakamura.]. Концептами выстлан, занят и заселен каждый кусочек плана, тогда как сам план образует ту неделимую среду, сплошная протяженность которой распределяется без разрыва между концептами; они занимают ее, не исчисляя (шифр концепта – это не число), распределяют ее между собой, не разделяя. План – это словно пустыня, которую концепты населяют без размежевания. Единственными областями плана являются сами концепты, а единственным вместилищем концептов является сам план. План не имеет иных областей, кроме заселяющих его и кочующих в нем племен. План обеспечивает все более плотную взаимную стыковку концептов, а концепты обеспечивают заселенность плана, кривизна которого все время обновляется и варьируется.
План имманенции – это не мыслимый или потенциально мыслимый концепт, но образ мысли, тот образ, посредством которого она сама себе представляет, что значит мыслить, обращаться с мыслью, ориентироваться в мысли… Это не метод, потому что любой метод касается возможных концептов и сам уже предполагает такой образ. Это также и не состояние знаний об устройстве и функционировании мозга, поскольку мысль здесь не соотносится с медленно действующим мозгом как научно характеризуемым состоянием вещей, где она просто осуществляется независимо от способа обращения с нею и от ее ориентации. Это также и не принятое в тот или иной момент мнение о мысли, ее формах, целях и средствах. Образ мысли требует строго разграничивать фактическое и юридическое: то, что относится к самой мысли, должно быть отделено от происшествий, связанных с мозгом, или же от исторических мнений. «Quid juris?» Например, потеря памяти или безумие – может ли это относиться к мысли как таковой, или же это лишь происшествия в жизни мозга, которые должны рассматриваться просто как факты? А созерцание, рефлексия, коммуникация – не суть ли это просто мнения о мысли, составляемые в ту или иную эпоху, в той или иной цивилизации? Образ мысли включает в себя только то, что мысль может востребовать себе по праву. А мысль востребует себе «только» движение, способное доходить до бесконечности. Мысль востребует по праву, отбирает для себя только бесконечное движение или же движение бесконечности. Именно из него и складывается образ мысли.
Движение бесконечности не отсылает к каким-либо пространственно-временным координатам, в которых определялись бы последовательные положения подвижного элемента и фиксированные точки и оси отсчета, по отношению к которым эти положения меняются. «Ориентация в мысли» не предполагает ни объективной системы отсчета, ни подвижного элемента, который переживал бы себя как субъект и в качестве такового желал или нуждался бы в бесконечности. Все здесь захвачено движением, так что не остается места ни для субъекта, ни для объекта, которые могут быть только концептами. В движении находится сам горизонт: относительный горизонт отдаляется по мере продвижения субъекта, в абсолютном же горизонте мы уже и всегда в плане имманенции. Характерным для бесконечного движения является его возвратно-поступательный характер: это движение направляется к некоторой цели, но одновременно и возвращается назад к себе, ибо стрелка компаса сама совпадает с полюсом. Если движение мысли к истине – это «обращение к…», то почему бы и самой истине не обратиться к мысли? И почему бы ей не отвратиться от мысли, когда сама мысль отвращается от нее? Однако здесь имеет место не слияние, а взаимообратимость, некий непосредственный, постоянный, мгновенно-молниеносный взаимообмен. Бесконечное движение двойственно, и между двумя его сторонами – всего лишь сгиб. В таком смысле и говорят, что мыслить и быть – одно и то же. Точнее, движение – это не только образ мысли, но и материя бытия. Мысль Фалеса, взвиваясь ввысь, возвращается в виде воды. Когда мысль Гераклита превращается в polemos, на нее обрушивается огонь. И здесь и там скорость одинакова: «Атом движется так же быстро, как мысль»[15 - Эпикур, «Письмо к Геродоту», 61–62.]. У плана имманенции две стороны – Мысль и Природа, Physis и No?s. Поэтому столь многие бесконечные движения заключены одно в другое, сгибаются одно внутри другого, так что возвратный ход одного мгновенно приводит в движение другое и этим грандиозным челноком непрестанно ткется план имманенции. «Обратиться к…» предполагает не только «отвратиться», но и «противостать», «развернуться вспять», «вернуться», «заблудиться», «исчезнуть»[16 - Об этой динамике см.: Michel Courthial, Le visage, в печати.]. Бесконечные движения порождаются даже негативностями: впасть в заблуждение в этом смысле так же продуктивно, как и избегнуть подделки, отдаться своим страстям – как и преодолеть их. Различные движения бесконечности настолько перепутаны между собой, что они вовсе не разрывают Всецелость плана имманенции, а образуют ее переменную кривизну, выпуклые и вогнутые зоны, всю ее фрактальную природу. Именно благодаря этой своей фрактальности планомен всякий раз оказывается бесконечностью, отличной от любой поверхности или объема, определимых как концепты. Каждое движение пробегает весь план, сразу же возвращаясь к себе, каждое движение сгибается, но вместе с тем сгибает другие и само получает от них сгиб, порождая обратные связи, соединения, разрастания, которые и образуют фрактализацию этой бесконечно сгибаемой бесконечности (переменную кривизну плана). Но если верно, что план имманенции всегда единственный и представляет собой чистую вариацию, то тем более требует объяснения существование варьирующихся, отличных друг от друга планов имманенции, которые сменяются или состязаются в истории, именно в силу отбора и предпочтения тех или других бесконечных движений. План имманенции очевидным образом различен у греков, в XVII веке и в современности (притом, что эти понятия расплывчаты и общи) – не тот образ мысли и не та материя бытия. Следовательно, план служит объектом бесконечной спецификации, а потому кажется Всецелостью лишь в каждом отдельном случае, для которого специфичен выбор того или иного движения. Эта сложность, связанная с окончательной характеристикой плана имманенции, может быть разрешена лишь постепенно.
Очень важно не путать план имманенции с занимающими его концептами. Тем не менее некоторые элементы могут встречаться дважды – в плане и в концепте, однако черты их будут при этом разными, даже если они и обозначаются одними и теми же глаголами и словами. Мы видели это на примере слов «существовать», «мысль», «единое»: они входят в составляющие концептов и сами являются концептами, но совсем по-иному, чем они принадлежат плану имманенции как образу или материи. И обратно, в плане истина может быть определена лишь через формулы «обратиться к…» или «то, к чему обращается мысль»; при этом, однако, мы не располагаем никаким концептом истины. Если и само заблуждение по праву является элементом плана, то тогда суть его просто в том, что мы принимаем ложное за истинное (падаем), концепт же оно обретет лишь в том случае, если будут определены его составляющие (например, согласно Декарту это две составляющих – ограниченное понимание и безграничная воля). Таким образом, если пренебречь разницей в природе, движения или элементы плана могут показаться просто номинальными определениями по отношению к концептам. На самом же деле элементы плана суть диаграмматические черты, тогда как концепты – интенсивные черты. Первые представляют собой движения бесконечности, вторые же – интенсивные ординаты этих движений, как бы оригинальные сечения или дифференциальные положения; это конечные движения, бесконечность которых только в скорости и которые всякий раз образуют поверхность или объем, некий неправильный контур, ставящий предел разрастанию. Первые суть абсолютные направления, по природе своей фрактальные, вторые же – абсолютные измерения, поверхности или объемы, которые всегда фрагментарны и определяются интенсивно. Первые являются интуициями, вторые – интенсионалами. Мысль о том, что любая философия вытекает из некоторой интуиции, которую она постоянно развертывает в своих концептах с разной степенью интенсивности, – эта грандиозная перспектива в духе Лейбница или Бергсона оказывается обоснованной, если рассматривать интуицию как оболочку бесконечных движений мысли, непрестанно пробегающих некоторый план имманенции. Разумеется, отсюда нельзя делать вывод, что концепты прямо выводятся из плана: для них требуется специальное конструирование, отличное от конструирования плана, и потому концепты должно создавать наряду с составлением плана. Интенсивные черты никогда не являются следствием диаграмматических черт, а интенсивные ординаты невыводимы из движений или направлений. Существующее между этими двумя разрядами соответствие – это даже нечто большее, чем простые переклички; в нем замешаны такие дополнительные по отношению к творчеству концептов инстанции, как концептуальные персонажи.
Если философия начинается с создания концептов, то план имманенции должен рассматриваться как нечто префилософское. Он предполагается – не так, как один концепт может отсылать к другим, а так, как все концепты в целом отсылают к некоему неконцептуальному пониманию. Причем это интуитивное понимание меняется в зависимости от того, как начертан план. У Декарта то было субъективно-имплицитное понимание, предполагаемое первичным концептом «Я мыслю»; у Платона то был виртуальный образ уже-помысленного, которым дублируется каждый актуальный концепт. Хайдеггер обращается к «преонтологическому пониманию Бытия», к «преконцептуальному» пониманию, в котором, очевидно, подразумевается постижение той или иной материи бытия в соотношении с тем или иным расположением мысли. Так или иначе, философия всегда полагает нечто префилософское или даже нефилософское – потенцию Всецелости, подобной волнуемой пустыне, которую заселяют концепты. «Префилософское» не означает чего-либо предсуществующего, а лишь нечто не существующее вне философии, хоть и предполагаемое ею. Это ее внутренние предпосылки. Нефилософское, возможно, располагается в самом сердце философии, еще глубже, чем сама философия, и означает, что философия не может быть понята одним лишь философско-концептуальным способом, что в сущности своей она обращается и к нефилософам[17 - Одну из самых интересных попыток в современной философии предпринял Франсуа Ларюэль: он обращается к некоторой Всецелости, которую характеризует как «нефилософскую» и, странным образом, «научную» и в которой коренится «философское решение». Такая Всецелость напоминает Спинозу. См.: Fran?ois Lamelle, Philosophie et non-philosophie, Ed. Mardaga.]. Как мы увидим, эта постоянная соотнесенность философии с нефилософией имеет различные аспекты; в данном первом аспекте философия, определяемая как творчество концептов, имеет следствием некоторую пресуппозицию, которая отлична и в то же время неотделима от нее. Философия – это одновременно творчество концепта и установление плана. Концепт есть начало философии, план же – ее учреждение[18 - Этьен Сурио (Etienne Souriau, L’instauration philosophique, Ed. Alcan, 1939), чуткий к творческой деятельности философии, писал об учредительном плане, составляющем почву этого творчества, или «философему», одушевляемую динамизмами (с. 62–63).]. Разумеется, план состоит не в какойлибо программе, чертеже, цели или средстве; это план имманенции, образующий абсолютную почву философии, ее Землю или же детерриториализацию, ее фундамент, на которых она творит свои концепты. Требуется и то и другое – создать концепты и учредить план, так же как птице нужны два крыла, а рыбе два плавника.
Обычно мысль вызывает к себе равнодушие. И тем не менее не будет ошибкой сказать, что это опасное занятие. Собственно, равнодушие прекращается именно тогда, когда эти опасности становятся очевидными, зачастую же они остаются скрытыми, малозаметными, неизбежными издержками предприятия. В силу того, что план имманенции префилософичен и работает уже не с концептами, в нем требуется экспериментировать на ощупь, и при его начертании пользуются средствами не вполне благовидными, не вполне благоразумными и рациональными. Это могут быть средства из разряда грез, патологических процессов, эзотерических опытов, опьянения или трансгрессии. В плане имманенции нужно стремиться к линии горизонта – из такого похода возвращаются с опаленными глазами, пусть даже это глаза духа. Даже и у Декарта есть своя греза. Мыслить – всегда значит идти колдовским путем. Таков, скажем, план имманенции у Мишо, с его неистовыми бесконечными движениями и скоростями. Чаще всего такого рода средства не проявляются в итоге мышления, каковой должен пониматься лишь сам по себе и на холодную голову. Но тогда «опасность» получает другой смысл – опасность очевидных последствий, наступающих тогда, когда чистая имманентность вызывает резкое инстинктивное осуждение со стороны общественного мнения, и это осуждение еще удваивается из-за природы создаваемых концептов. Ибо мы можем мыслить, лишь становясь чем-то иным, немыслящим, – животным, растением, молекулой, элементарной частицей, которые пересматривают нашу мысль и дают ей новый толчок.
План имманенции – это как бы срез хаоса, и действует он наподобие решета. Действительно, для хаоса характерно не столько отсутствие определенностей, сколько бесконечная скорость их возникновения и исчезновения; это не переход от одной определенности к другой, а, напротив, невозможность никакого соотношения между ними, так как одна возникает уже исчезающей, а другая исчезает едва наметившись. Хаос – это не инертно-стационарное состояние, не случайная смесь. Хаос хаотизирует, растворяет всякую консистенцию в бесконечности. Задача философии – приобрести консистенцию, притом не утратив бесконечности, в которую погружается мысль (в этом отношении хаос обладает как физическим, так и мысленным существованием). Придать консистенцию у ничего не потеряв из бесконечности, – это далеко не та же задача, что в науке, которая стремится придать хаосу референции ценой отказа от бесконечных движений и скоростей и изначального ограничения скорости; в науке первенствует свет, то есть относительный горизонт. Напротив того, философия исходит из предположения или из учреждения плана имманенции – в его переменной кривизне и сохраняются те бесконечные движения, которые возвращаются обратно к себе в процессе постоянного взаимообмена, но одновременно и высвобождают другие сохраняющиеся движения. Тогда делом концептов будет намечать интенсивные ординаты этих бесконечных движений, то есть движения сами по себе конечные, но с бесконечной скоростью формирующие переменные контуры, вписанные в план. Осуществляя сечение хаоса, план имманенции призывает к созданию концептов.
На вопрос: «Может ли и должна ли философия рассматриваться как явление древнегреческой цивилизации?» – первым ответом был сочтен такой: действительно, греческий полис предстает как новое сообщество «друзей», во всей двусмысленности этого слова. Жан-Пьер Вернан дает еще и второй ответ: греки первыми осознали, что Порядок строго имманентен такой космической среде, которая, подобно плоскому плану, делает срез хаоса. Если такой план-решето называть Логосом, то это далеко не то же, что просто «разум» (в том смысле, в каком говорят, что мир устроен разумно). Разум – всего лишь концепт, и притом слишком скудный, чтобы им определялись план и пробегающие его бесконечные движения. В общем, первыми философами были те, кто учредил план имманенции в виде сети, протянутой сквозь хаос. В этом смысле они противостояли Мудрецам – персонажам религии, жрецам, в понимании которых учреждаемый порядок всегда трансцендентен, устанавливается извне вдохновленным Эридой великим деспотом или величайшим из богов, в результате таких войн, перед которыми меркнет любой агон, и такой вражды, где изначально нет места испытаниям соперничества[19 - Ср.: Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensеe grecque, P.U.F., p. 105–125.]. Религия всегда там, где трансцендентность, вертикальное Бытие, имперское Государство на небесах или на земле, а философия всегда там, где имманентность, пусть даже она служит ареной для агона и соперничества (этого не опровергают и греческие тираны, так как они всецело на стороне сообщества друзей, проявляющегося сквозь все их безумнейшие и жесточайшие соперничества). Таким образом, обе возможных характеристики философии как специфически греческого явления, пожалуй, глубоко взаимосвязаны. Одни лишь друзья способны развернуть план имманенции, который, словно неверная почва, уходит из-под ног идолов. У Эмпедокла этот план чертит Филия, хотя ко мне она оборачивается другой стороной своего сгиба – Ненавистью, движением, которое стало негативным и свидетельствует о субтрансцендентности хаоса (вулкан) и супертрансцендентности божества. Возможно, что первые философы, и особенно Эмпедокл, еще были похожи на жрецов и даже на царей. Они носили маску мудрецов, и, по словам Ницше, как же было философии поначалу не маскироваться? Да и перестанет ли она когда-нибудь вообще в этом нуждаться? Коль скоро учреждение философии совпадает с предположением о префилософском плане, то почему же философии не воспользоваться этим, чтобы взять себе личину? Так или иначе, первые философы начертали план, непрестанно пробегаемый бесконечными движениями по обеим своим сторонам, одна из которых может быть охарактеризована как Physis, поскольку она дает материю для Бытия, а другая – как No?s, поскольку она дает образ для мысли. С наибольшей строгостью различение этих двух сторон проведено Анаксимандром, у которого движение качеств сочетается с могуществом абсолютного горизонта – Apeiron, или Беспредельного, – но в одном и том же плане. Философ осуществляет массовый захват мудрости, ставит ее на службу чистой имманентности. Генеалогию он заменяет геологией.
ПРИМЕР III
Нельзя ли рассматривать всю историю философии как учреждение того или другого плана имманенции? При этом выделялись бы физикалисты, делающие акцент на материи Бытия, и ноологисты – для них главное образ мысли. Однако сразу же возникает опасность путаницы: уже не сам план имманенции образовывает данную материю Бытия или данный образ мысли, но имманентность приписывается «чему-то» в дательном падеже, будь то Материя или Дух. У Платона и его последователей это стало очевидным. Вместо того чтобы план имманенции образовывал Всецелость, имманентность оказывается имманентной Единому (в дательном падеже), то есть на то Единое, в котором простирается и которому присваивается имманентность, накладывается другое Единое, на сей раз трансцендентное; по ту сторону каждого Единого появляется еще Единое – это и есть формула неоплатоников. Всякий раз когда имманентность толкуют как имманентную «чему-то», происходит смешение плана и концепта, так что концепт оказывается трансцендентной универсалией, а план – атрибутом внутри концепта. Превратно истолкованный таким образом план имманенции вновь порождает трансцендентность – отныне он просто поле феноменов, которое лишь во вторичном владении обладает тем, что изначально принадлежит к трансцендентному единству.
В христианской философии ситуация еще более ухудшилась. Полагание имманентности осталось чисто философским учреждением, но теперь оно оказывается терпимо лишь в очень малых дозах, оно строго контролируется и обставляется со всех сторон требованиями эманативной и особенно креативной трансцендентности. Рискуя судьбой своего творчества, а то и собственной жизнью, каждый философ вынужден доназывать, что вводимая им в мир и дух доза имманентности не подрывает трансцендентности Бога, которому имманентность может быть присвоена лишь вторично (Николай Кузанский, Экхарт, Бруно). Религиозная власть требует, чтобы имманентность допускалась лишь местами или на промежуточном уровне, примерно как в каскадных фонтанах, где вода может недолго пребывать, «имманировать» на каждой ступени, но лишь при том условии, что она проистекает из более высокого источника и стекает еще ниже (как выразился бы Валь, это трансасценденция и трансдесценденция). Можно считать, что имманентность – это актуальнейший пробный камень любой философии, так как она берет на себя все опасности, с которыми той приходится сталкиваться, все осуждения, гонения и отречения, которые та претерпевает. Чем, кстати, доказывается, что проблема имманентности – не абстрактная и не чисто теоретическая. На первый взгляд непонятно, почему имманентность столь опасна, но тем не менее это так. Она поглощает без следа мудрецов и богов. Философа узнают по тому, что он отдает на откуп имманентности – словно на откуп огню. Имманентность имманентна только себе самой, и тогда уж она захватывает все, вбирает в себя Всецелость и не оставляет ничего такого, чему она могла бы быть имманентна. По крайней мере, всякий раз когда имманентность толкуют как имманентную «Чему-то», можно быть уверенным, что этим «Чем-то» вновь вводится трансцендентное.
Начиная с Декарта, а затем у Канта и Гуссерля, благодаря cogito появилась возможность трактовать план имманенции как поле сознания. Иными словами, имманентность стали считать имманентной чистому сознанию, мыслящему субъекту. У Канта этот субъект называется трансцендентальным, а не трансцендентным – именно потому, что это субъект поля имманенции любого возможного опыта, которым покрывается все, как внешнее, так и внутреннее. Кант отвергает всякое трансцендентное применение синтеза, зато он относит имманентность к субъекту синтеза как новому, субъективному единству. Он даже может позволить себе роскошь разоблачения трансцендентных Идей, сделав из них «горизонт» поля, имманентного субъекту[20 - Кант, «Критика чистого разума»: пространство как форма внешнего чувства точно так же заключено «в нас», как и время – форма внутреннего чувства («Критика четвертого паралогизма»). Об Идее как «горизонте» см. «Приложение к трансцендентальной диалектике».]. Но при всем том Кант находит новейший способ спасения трансцендентности: теперь это уже будет не трансцендентность Чего-то или же Единого, стоящего выше всех вещей (созерцание), а трансцендентность Субъекта, которому поле имманенции присваивается лишь постольку, поскольку принадлежит некоему «я», необходимо представляющему себе данный субъект (рефлексия). Мир греческой философии, не принадлежавший никому, все более и более переходит в собственность христианского сознания.
Остается следующий шаг: когда имманентность становится имманентна трансцендентальной субъективности (в дательном падеже), то в ее собственном поле должна появиться метка или шифр трансцендентности как акта, отсылающего теперь уже к другому «я», к другому сознанию (коммуникация). Так происходит у Гуссерля и многих его последователей, которые вскрывают в Другом или же в Плоти подземную работу трансцендентного внутри самой имманентности. У Гуссерля имманентность мыслится как имманентность текущего опыта субъективности (в дательном падеже), но поскольку этот чистый и даже стихийный опыт не всецело принадлежит тому «я», которое представляет его себе, то в этих самых зонах непринадлежности на горизонте вновь появляется что-то трансцендентное – то ли в форме «имманентно-первозданной трансцендентности» мира, заполненного интенциональными объектами, то ли как особо привилегированная трансцендентность интерсубъективного мира, населенного другими «я», то ли как объективная трансцендентность мира идей, наполненного культурными формациями и сообществом людей. Сегодня уже не довольствуются тем, чтобы мыслить имманентность как имманентную чему-то трансцендентному, – желают помыслить трансцендентность внутри имманентного у надеясь на разрыв в имманентности. Так, у Ясперса план имманенции получает глубочайшее определение как «всеохватывающее», но в дальнейшем это всеохватывающее оказывается лишь вулканическим бассейном для извержений трансцендентного. Греческий логос заменяется иудео-христианским «словом»; не довольствуясь больше присвоением имманентности трансцендентному, его заставляют отовсюду изливаться из нее. Не довольствуясь отсылкой имманентности к трансцендентному, желают, чтобы она сама отдавала его назад, выдавала, воспроизводила. Собственно, сделать это нетрудно, достаточно лишь остановить движение[21 - Raymond Bellour, L’entre-images, Ed. de la Diffеrence, p. 132: о связи между трансцендентностью и перерывом в движении, «фиксацией на образе».]. Как только останавливается движение бесконечности, трансцендентность оседает, чтобы затем вновь воспрянуть, взметнуться, вырваться на волю. Три типа Универсалий – созерцание, рефлексия, коммуникация – это как бы три века философии, Эйдетика, Критика и Феноменология, неотделимые от истории одной долгой иллюзии. В инверсии ценностей доходили даже до того, что убеждали нас, будто имманентность – это тюрьма (солипсизм…), из которой нас избавляет Трансцендентное.
Когда Сартр предположил существование безличностного трансцендентального поля, это вернуло имманентности ее права[22 - Sartre, La transcendance de l’Ego, Ed. Vrin (см. ссылку на Спинозу на с. 23).]. Говорить о плане имманенции становится возможно лишь тогда, когда имманентность не имманентна более ничему, кроме себя. Подобный план, возможно, представляет собой радикальный эмпиризм – в нем не представлен никакой текущий опыт, имманентный некоторому субъекту и индивидуализирующийся в том, что принадлежит некоторому «я». В нем представлены одни лишь события, то есть возможные миры как концепты, и Другие как выражения возможных миров или концептуальные персонажи. Событие не соотносит опыт с трансцендентным субъектом=Я, а, напротив, само соотносится с имманентным парящим полетом над бессубъектным полем; Другой не сообщает другому «я» трансцендентность, но возвращает всякое другое «я» в имманентность облетаемого поля. Эмпиризм знает одни лишь события и Других, поэтому он великий творец концептов. Его сила начинается с того момента, когда он дает определение субъекту, – субъект как габитус, привычка, не более чем привычка в поле имманентности, привычка говорить «Я»…
Что имманентность бывает имманентна лишь себе самой, то есть представляет собой план, пробегаемый движениями бесконечности и наполненный интенсивными ординатами, – это в полной мере сознавал Спиноза. Оттого он был настоящим королем философов – возможно, единственным, кто не шел ни на малейший компромисс с трансцендентностью, кто преследовал ее повсюду. Он создал движение бесконечности, а в последней книге «Этики», говоря о третьем роде познания, придал мысли бесконечные скорости. Здесь он сам достигает неслыханных скоростей, такой молниеносной лаконичности, что волей-неволей приходится говорить о музыке, вихрях, ветре и струнах. Он открыл, что свобода – в одной лишь имманентности. Он дал завершение философии, осуществив ее префилософское предположение. У Спинозы не имманентность относится к субстанции и модусам, а сами спинозовские концепты субстанции и модусов относятся к плану имманенции как к своей пресуппозиции. Этот план обращен к нам двумя своими сторонами – протяженностью и мышлением, а точнее, двумя потенциями – потенцией бытия и потенцией мысли. Спиноза – это та головокружительная имманентность, от которой столь многие философы тщетно пытаются избавиться. Созреем ли мы когда-нибудь для вдохновения Спинозы? Однажды такое случилось с Бергсоном – в начале его «Материи и памяти» начертан план как срез хаоса; это одновременно бесконечное движение непрерывно распространяющейся материи и образ постоянно и по праву роящейся чистым сознанием мысли (не имманентность имманентна сознанию, а наоборот).
План окружают иллюзии. Это не абстрактные ошибки и не просто результаты внешнего давления, а миражи мысли. Быть может, они объяснимы тяжестью нашего мозга, автоматической передачей в нем господствующих мнений, нашей неспособностью вынести бесконечные движения, совладать с бесконечными скоростями, грозящими нас разрушить (и тогда нам приходится останавливать движение, отдаваться в плен относительному горизонту)? Однако мы ведь и сами пробегаем план имманенции, находимся в абсолютном горизонте. А значит, иллюзии должны хотя бы отчасти исходить из самого плана, подниматься над ним словно туман над озером, словно испарения пресократизма, выделяемые постоянно происходящим в плане взаимопревращением стихий. Как писал Арто, «”план сознания”, то есть беспредельный план имманенции, – индейцы называют его ”сигури” – порождает также и галлюцинации, ошибочные восприятия, дурные чувства…»[23 - Artaud, Les Tarahumaras (Cuvres compl?tes, IX).]. Следовало бы составить перечень этих иллюзий, измерить их, как Ницше вслед за Спинозой составлял перечень «четырех великих заблуждений». Однако такой перечень бесконечен. Прежде всего – иллюзия трансцендентности, возможно предшествующая всем остальным (у нее два аспекта – имманентность делается имманентной чему-то, или же в самой имманентности вновь обнаруживается трансцендентность). Далее – иллюзия универсалий, когда концепты смешиваются с планом, причем такая путаница возникает, как только постулируется имманентность, имманентная чему-то, поскольку это «что-то» с необходимостью оказывается концептом; кажется, что универсалии что-то объясняют, тогда как они сами должны быть объяснены, и при этом впадают в тройную иллюзию – либо созерцания, либо рефлексии, либо коммуникации. Далее – иллюзия вечности, когда забывают, что концепты должны быть сотворены. Далее, иллюзия дискурсивности, когда концепты смешиваются с пропозициями… Отнюдь не следует считать, что все эти иллюзии логически сочленяются между собой наподобие пропозиций, но они взаимно перекликаются или отражаются и окутывают план плотным туманом.
План имманенции извлекает определения из хаоса, делая из них свои бесконечные движения или Анаграмматические черты. Можно и даже должно предполагать множественность планов, так как ни один из них не мог бы охватить весь хаос, не впадая в него сам, и так как в каждом содержатся лишь те движения, которые способны к общему сгибу. Если история философии являет нам так много совершенно разных планов, то это не только из-за иллюзий и их многообразия, не только потому, что каждый по-своему вновь и вновь восстанавливает трансцендентность, но и, глубже, потому, что каждый по-своему создает имманентность. Каждый план осуществляет отбор того, что по праву принадлежит мысли, но этот отбор меняется в зависимости от плана. Каждый план имманенции представляет собой Всецелость: она не частична, как множество научных объектов, не фрагментарна, как концепты, а дистрибутивна – это «всякое». В едином плане имманенции много страниц. И, сравнивая планы между собой, бывает даже нелегко определить в каждом случае, один план перед нами или несколько разных; был ли, скажем, общий образ мысли у досократиков, несмотря на все различия между Гераклитом и Парменидом? Можно ли говорить о едином плане имманенции или едином образе для так называемой классической мысли, развивающейся непрерывно от Платона до Декарта? Меняются ведь не только сами планы, но и способы их распределения. Можно ли, глядя с более удаленной или более близкой точки зрения, сгруппировать вместе разные страницы на протяжении достаточно долгого периода или же, напротив, выделить некоторые страницы из одного, казалось бы, общего плана? и откуда возьмутся такие точки зрения, вопреки абсолютному горизонту? Можно ли здесь удовольствоваться историцизмом, обобщенным релятивизмом? Во всех этих отношениях в план вновь проникает и вновь становится наиважнейшим вопрос о едином и множественном.
В пределе можно сказать, что каждый великий философ составляет новый план имманенции, приносит новую материю бытия и создает новый образ мысли, так что не бывает двух великих философов в одном и том же плане. Действительно, мы не можем представить себе великого философа, о котором не приходилось бы сказать: он изменил смысл понятия «мыслить», он стал (по выражению Фуко) «мыслить иначе». А когда у одного и того же автора выделяют несколько разных философий, так ведь это потому, что он сам переменил план, нашел еще один новый образ. Трудно не прислушаться к печальным словам Бирана незадолго до смерти: «пожалуй, я уже староват, чтобы начинать конструирование заново»[24 - B?ran. Sa vie et ses pensеes, Ed. Naville (1823), p. 357.]. А с другой стороны, вовсе не являются философами те чиновники от философии, которые не обновляют образ мысли и вообще не осознают такой проблемы, чья заемная мысль пребывает в блаженном неведении даже о тяжких трудах тех людей, кого сама выставляет своим образцом. Но тогда как же в философии можно понять друг друга, если это сплошные разрозненные страницы, которые то склеиваются вместе, то снова разделяются? Не получается ли, что мы обречены вычерчивать свой собственный план, не зная, с чьими планами он пересечется? Не значит ли это, что мы как бы заново создаем хаос? Именно по этой причине в каждом плане есть не только страницы, но и дыры, и сквозь них протекает туман, которым окружен план и в котором начертавший его философ порой сам же первый рискует заблудиться. Итак, обилие поднимающихся над планом туманов мы объясняем двояко. Прежде всего тем, что мысль невольно пытается истолковывать имманентность как имманентную чему-то, будь то великий Объект созерцания, или Субъект рефлексии, или же Другой субъект коммуникации; при этом фатальным образом вновь вводится трансцендентность. А кроме того, это неизбежно потому, что план имманенции, как видно, может претендовать на уникальность Плана, лишь восстанавливая тот самый хаос, который он был призван предотвратить: можете выбирать между трансцендентностью и хаосом…
ПРИМЕР IV
Когда план отбирает принадлежащее по праву мысли и делает из этого ее черты, интуиции, направления или диаграмматические движения, то прочие определения отбрасываются им как простые факты, характеристики состояний вещей, содержания нашего опыта. Разумеется, из этих состояний вещей философия еще может получить концепты, если только сумеет извлечь из них событие. Однако вопрос в другом. То, что по праву принадлежит мысли, то, что отобрано как диаграмматическая черта в себе, отторгает другие, конкурирующие определения (даже если они и призваны воспринять в себя концепт). Так, Декарт трактует заблуждение как черту или направление, выражающие по праву негативность мысли. Он не первым поступает так, и заблуждение может вообще рассматриваться как одна из главных черт классического образа мысли. В рамках такого образа отнюдь не игнорируется то, что мысли грозит и ряд других вещей: глупость, потеря памяти, утрата речи, бред, безумие… Но все эти определения рассматриваются лишь как факты, и по отношению к мысли из них может быть только одно имманентное следствие по праву – заблуждение, опять-таки заблуждение. Заблуждение – это то бесконечное движение, которое вбирает в себя всю негативность. Быть может, эта черта восходит еще к Сократу, для которого фактически злой человек есть по праву человек «ошибающийся»? Но хотя «Теэтет» – это обоснование заблуждения, все же вообще Платон признает права других, конкурирующих определений (например, в «Федре» это бред), так что образ мысли по Платону, на наш взгляд, намечает еще и много иных путей.
Не только в концептах, но и в образе мысли произошла большая перемена, когда при выражении негативности мысли заблуждение и предрассудок были заменены невежеством и суеверием; важную роль сыграл здесь Фонтенель, причем одновременно претерпели изменение бесконечные движения, в которых происходит как утрата, так и завоевание мысли. Тем более когда Кант отметил, что мышлению грозит не столько заблуждение, сколько неизбежные иллюзии, происходящие изнутри самого разума, из той его арктической области, где теряет направление стрелка любого компаса, – то при этом оказалась необходимой переориентация всей мысли, и одновременно в нее проникло некое по праву присутствующее бредовое начало. Отныне в плане имманенции мысли угрожают уже не ямы и ухабы по дороге, а северные туманы, которыми все окутано. Самый вопрос об «ориентации в мысли» меняет смысл.
Ни одна черта не может быть изолирована от других. В самом деле, движение, которому приписан отрицательный знак, само соединено общим сгибом с другими движениями, имеющими знак положительный или двойственный. В классическом образе заблуждение лишь постольку выражает собой по праву наихудшую опасность для мысли, поскольку сама мысль представляется «желающей» истины, ориентированной на истину, обращенной к истине; тем самым предполагается, что все знают, что значит мыслить, и все по праву способны мыслить. Такой несколько забавной доверчивостью и одушевлен классический образ: отношение к истине образует бесконечное движение знания как диаграмматическую черту. Напротив того, новое освещение, которое проблема получила в XVIII веке, – с переходом от «естественного света» к «Просвещению» – состоит в замене знания верой, то есть новым бесконечным движением, из которого вытекает иной образ мысли: отныне речь не о том, чтобы обращаться к чему-либо, а о том, чтобы идти за ним следом, не схватывать и быть захваченным, а делать умозаключения. При каких условиях заключение будет правильным? При каких условиях вера, ставшая профанной, может сохранить законность? Этот вопрос получил разрешение лишь с созданием основных концептов эмпиризма (ассоциация, отношение, привычка, вероятность, условность…), но и обратно – этими концептами, среди которых и сам концепт веры, предполагаются диаграмматические черты, которые сразу превращают веру в бесконечное движение, независимое от религии и пробегающее новый план имманенции (напротив того, религиозная вера становится концептуализируемым частным случаем, чью законность или незаконность можно измерить по шкале бесконечности). У Канта, несомненно, можно встретить немало таких черт, унаследованных от Юма, но они здесь претерпели еще одну глубокую перемену – в новом плане или согласно новому образу. Каждый такой шаг – великое дерзание. При переходе от одного плана имманенции к другому, когда по-новому распределяется принадлежащее по праву мысли, то меняются не только позитивные или негативные черты, но и черты двойственные по знаку, которые в некоторых случаях становятся все более многочисленными и более не довольствуются тем, чтобы своим сгибом повторять векторную оппозицию движений.
Если попытаться столь же суммарно обрисовать черты новоевропейского образа мысли, то в нем не будет торжества, даже и смешанного с отвращением. Ни один образ мысли не может обойтись отбором одних лишь спокойных определений, все они сталкиваются с чем-нибудь по праву отталкивающим – будь то заблуждение, в которое мысль непрестанно впадает, либо иллюзия, где она постоянно вертится по кругу, либо глупость, в которой она то и дело норовит погрязнуть, либо бред, в котором она вновь и вновь удаляется от себя самой или же от божества. Уже в греческом образе мысли предусматривалось это безумие двойного искажения, когда мысль впадает не столько в заблуждение, сколько в бесконечное блуждание. Среди двойственностей бесконечного движения мысль никогда не соотносилась с истиной простым, а тем более неизменным способом. Поэтому, желая определить философию, напрасно обращаться к подобному соотношению, Первейшей чертой новоевропейского образа мысли стал, возможно, полный отказ от такого соотношения: теперь считается, что истина – это всего лишь создаваемое мыслью с учетом плана имманенции, который она считает предполагаемым, и всех черт этого плана, негативных и позитивных, которые становятся неразличимыми между собой; как сумел внушить нам Ницше, мысль – это творчество, а не воля к истине. А если теперь, в отличие от классического образа мысли, больше нет воли к истине, то это оттого, что мысль составляет лишь «возможность» мыслить, которая еще не позволяет определить мыслителя, «способного» мыслить и говорить «Я»; необходимо насильственное воздействие на мысль, чтобы мы сделались способны мыслить, – воздействие некоего бесконечного движения, которое одновременно лишает нас способности говорить «Я». Эта вторая черта новоевропейского образа мысли изложена в ряде знаменитых текстов Хайдеггера и Бланшо. Третья же черта его в том, что такое «Не-могущество» мысли, сохраняющееся в самом ее сердце даже после того как она обрела способность, определимую как творчество, – есть не что иное, как множество двойственных знаков, которые все более нарастают, становятся диаграмматическими чертами или бесконечными движениями, обретая значимость по праву, тогда как до сих пор они были лишь ничтожными фактами и в прежних образах мысли отбрасывались при отборе; как показывают Клейст и Арто, сама мысль как таковая начинает скалиться, скрипеть зубами, заикаться, издавать нечленораздельные звуки и крики, и все это влечет ее к творчеству или же к попыткам его[25 - Cf. Kleist, «De l’еlaboration progressive des idеes dans le discours» (Anecdotes et petits еcrits, Ed. Payot, p. 77); Artaud, «Correspondance avec Rivi?re» (Cuvres compl?tes, I).]. Мысль ищет – но не как человек, обладающий методом поиска, а скорее как пес, который на взгляд со стороны беспорядочно мечется из стороны в сторону… Не стоит бахвалиться подобным образом мысли: в нем много бесславных страданий, и он показывает, насколько труднее сделалось мыслить: такова имманентность.
Историю философии можно сравнить с искусством портрета. Задача здесь – не «написать схоже», то есть повторить сказанное философом, а создать сходство, одновременно показав учрежденный им план имманенции и сотворенные им новые концепты. Получается портрет умственный, ноэтический, машинный. И хотя обычно такие портреты пишут средствами философии, их можно создавать и эстетически. Так, недавно Тенгли выставлял монументальные машинные портреты философов, где осуществляются мощные бесконечные движения, совместные или взаимно чередующиеся, свертывающиеся и развертывающиеся, где звуки, вспышки, материи бытия и образы мысли распределены согласно планам сложной кривизны[26 - Тенгли, каталог выставки в Бобуре, 1989.]. И все же – если нам будет позволено покритиковать столь великого художника – его попытка, как кажется, еще не доведена до конца. В его Ницше нет ничего танцующего, при том что в других своих работах Тенгли умел прекрасно передавать танец машин. Портрет Шопенгауэра не открывает ничего главного, тогда как его четыре Корня и покрывало Майи, казалось, так и просятся занять собой двуликий план Мира как воли и представления. У Хайдеггера не сохранилось никакой потаенности-непотаенности в плане еще не мыслящей мысли. Возможно, следовало бы уделять больше внимания плану имманенции, начертанному как абстрактная машина, и концептам как деталям этой машины. В этом смысле можно было бы вообразить следующий машинный портрет Канта, включающий в себя все вплоть до его иллюзий:
1. – «Я мыслю» с бычьей головой, озвученное изображение, непрестанно твердящее «я = я». 2. – Категории как универсальные концепты (четырех основных разрядов) – экстенсивные щупальца, втягивающиеся внутрь в зависимости от кругового движения 3. – Крутящееся колесо схем. 4. – Неглубокий ручей Времени как формы внутреннего чувства, в который частично погружено колесо схем. 5. – Пространство как форма внешнего чувства – берега и дно. 6. – Пассивное «я» на дне ручья, как точка соединения этих двух форм. 7. – Принципы синтетических суждений, пробегающие пространство-время. 8. – Трансцендентальное поле возможного опыта, имманентное моему «Я» (план имманенции). 9. – Три Идеи, или иллюзии трансцендентности (круги, вращающиеся в абсолютном горизонте, – Душа, Мир и Бог).
Существует немало проблем, касающихся не только истории философии, но в равной мере и самой философии. Страницы плана имманенции то разделяются вплоть до противопоставления друг другу, когда каждая из них соответствует тому или иному конкретному философу, то, напротив, соединяются, покрывая как минимум весьма долгие исторические периоды. Кроме того, сложны и сами отношения между учреждением префилософского плана и созданием философских концептов. На протяжении длительного периода философы могут создавать новые концепты, оставаясь в том же плане и имея в виду тот же образ, что и кто-либо из прежних философов, которого они объявляют своим учителем; таковы Платон и неоплатоники, Кант и неокантианцы (или даже реактуализация некоторых частей платонизма у самого Канта). Вместе с тем, однако, они продлевают первоначальный план и придают ему новую кривизну, так что все время приходится гадать: не есть ли это уже другой план, вплетенный в ткань первоначального? Таким образом, вопрос о том, в каких случаях и до какой степени одни философы являются «учениками» другого, а в каких случаях, напротив, ведут его критику, меняя план и создавая иной образ, – этот вопрос требует сложных и относительных оценок, тем более что занимающие план концепты никогда не поддаются простой дедукции. Концепты, которые поселяются в одном и том же плане (пусть даже в самое разное время и каждый по-своему присоединяясь к остальным), мы будем называть концептами одной группы; и наоборот – если концепты отсылают к различным планам. Между творчеством концептов и учреждением плана имеется строгое соответствие, но оно возникает под влиянием косвенных отношений, которые еще предстоит определить.
Можно ли сказать, что один план «лучше» другого, или хотя бы что он отвечает или не отвечает требованиям эпохи? Но что значит отвечать требованиям, и какое отношение существует между диаграмматическими движениями или чертами того или иного образа мысли и социоисторическими движениями или чертами той или иной эпохи? Решение этих проблем может продвинуться вперед лишь при том условии, что мы откажемся от узко исторического взгляда на «до» и «после» и будем рассматривать не столько историю философии, сколько время философии. Это стратиграфическое время, где «до» и «после» обозначают всего лишь порядок напластований. Некоторые дороги (движения) обретают свой смысл и направление лишь в качестве спрямлений или окольных путей по отношению к уже исчезнувшим; переменная кривизна может предстать только преобразованием одной или нескольких других; тот или иной пласт или страница плана имманенции с необходимостью оказывается выше или ниже других, а образы мысли не могут возникать в каком угодно порядке, так как в них внутренне заложена переориентация, непосредственно заметная лишь на фоне прежнего образа (да и для концептов определяющая их точка конденсации предполагает либо раздробление прежней точки, либо слияние нескольких прежних). Умственный пейзаж не меняется на протяжении веков как придется: если ныне плоская и сухая почва являет тот или иной вид и текстуру – значит, еще недавно здесь возвышалась гора, а там протекала река. Правда, на поверхность могут выходить и очень древние пласты, пробиваясь сквозь покрывшие их образования и непосредственно воздействуя на нынешний пласт, которому они сообщают новую кривизну. Более того, в разных областях плана напластования могут быть неодинаковыми и чередоваться в различном порядке. Таким образом, философское время – это время всеобщего сосуществования, где «до» и «после» не исключаются, но откладываются друг на друга в стратиграфическом порядке. Это и есть бесконечное становление философии, которое пересекается с ее историей, но не совпадает с нею. Жизнь философов и наиболее внешние моменты их творчества подчиняются обычным законам временной последовательности; однако их имена сосуществуют между собой и блистают либо путеводными звездами, помогающими нам вновь и вновь проходить по составляющим концепта, либо направляющими ориентирами того или иного пласта или страницы; их свет не перестает доходить до нас, подобно свету угасших звезд, еще ярче чем прежде. Философия – это становление, а не история, сосуществование планов, а не последовательность систем.
Поэтому планы могут то разделяться, то соединяться – правда, это бывает и к добру и не к добру. Всем им свойственно реставрировать трансцендентность и иллюзию (они не в силах удержаться от этого), но также и ожесточенно бороться с ними, причем каждый план делает и то и другое по-своему. Существует ли «лучший» план, который не отдавал бы имманентность Чему-то = х, и не изображал бы больше ничего трансцендентного? Можно сказать, что «настоящий» План имманенции – это нечто такое, что должно быть мыслимо и не может быть мыслимо. Очевидно, это и есть немыслимое в мысли. Это основа всех планов, имманентная каждому мыслимому плану, которому не дано самому ее помыслить. Это самое сокровенное в мысли, и в то же время абсолютно внешнее. Будучи внешним, он отдаленнее любого внешнего мира, потому что он еще и внутреннее, которое глубже любого внутреннего мира; такова имманентность, «сокровенность как Внешнее, внешнее, ставшее удушающим вторжением внутрь, и взаимопревращение одного и другого»[27 - Blanchot, Uentretien infini, Gallimard, р. 65. О немыслимом в мысли см.: Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, p. 333–339. Cp. также «внутреннюю даль» y Мишо.]. Челночный ход плана – бесконечное движение. Пожалуй, в этом и заключается высший жест философии – не столько мыслить «настоящий» План имманенции, сколько показывать, что он наличествует, немыслимый, в каждом плане. А тем самым и мыслить его – как внешнее и внутреннее по отношению к мысли; внешнее, которое не снаружи, и внутреннее, которое не внутри. То, что не может быть и вместе с тем должно быть мыслимо, было однажды помыслено, подобно тому как однажды воплотился Христос, дабы тем самым показать возможность невозможного. Таким Христом философов является Спиноза, а другие величайшие философы скорее лишь апостолы, которые кто ближе, кто дальше от этого таинства. Спиноза – бесконечное становление-философом. Он показал, составил, помыслил «лучший» план имманенции – то есть самый чистый, который не отдается во власть трансцендентности и не привносит вновь трансцендентного, который внушает меньше всего иллюзий, дурных чувств и ошибочных восприятий…
3. Концептуальные персонажи
ПРИМЕР V
Cogito Декарта сотворено как концепт, однако у него есть пресуппозиции. Не в том смысле, в каком один концепт предполагает другие (например, «человек» предполагает «животное» и «разумное»). Здесь пресуппозиции имплицитны, субъективны, преконцептуальны и формируют образ мысли: все знают, что значит мыслить. Все обладают возможностью мыслить, все желают истины… А есть ли что-то другое, кроме этих двух элементов – концепта и плана имманенции, то есть образа мысли, который должны занять концепты одной группы (cogito и сочетаемые с ним концепты)? Есть ли в случае Декарта что-то иное, кроме сотворенного cogito и предполагаемого образа мысли? Да, есть и нечто иное, несколько таинственное, появляющееся или проявляющееся по временам, обладающее зыбким существованием где-то между концептом и преконцептуальным планом, движущееся между тем и другим. В данном случае это Идиот: именно он говорит «Я», именно он провозглашает cogito, но он же и обладает субъективными пресуппозициями, то есть чертит план. Идиот – это частный мыслитель, противостоящий публичному профессору (схоласту): профессор все время ссылается на школьные концепты (человек – разумное животное), частный же мыслитель формирует концепт из врожденных сил, которыми по праву обладает каждый сам по себе (я мыслю). Таков весьма странный тип персонажа – желающий мыслить и мыслящий самостоятельно, посредством «естественного света». Идиот – это концептуальный персонаж. Теперь мы можем точнее ответить на вопрос о том, имелись ли у cogito предшественники. Откуда взялся этот персонаж идиота – может быть, он возник в христианской атмосфере, но в качестве реакции против «схоластической» организации христианства, против авторитарной церковной организации? А может быть, его следы найдутся уже у блаженного Августина? Быть может, свою полную значимость концептуального персонажа он получил у Николая Кузанского – в силу чего этот философ близко подошел к cogito, хоть еще и не добился его кристаллизации в концепт[28 - Об идиоте (профане, отдельном частном лице в противоположность технику и ученому) в его отношениях к мысли см.: Nicolas de Cuse, Idiota (Cuvres choisies par M. de Gandillac, Ed. Aubier). Эти три персонажа повторяются и у Декарта (Евдокс-идиот, Полиандр-техник и Эпистемон – публичный ученый): Descartes, La recherche de la vеritе par la lumi?re naturelle (Cuvres philosophiques, Ed. Alquiе, Garnier, II). О причинах, по которым Николай Кузанский не дошел до cogito, см.: Gandillac, р. 26.]
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: