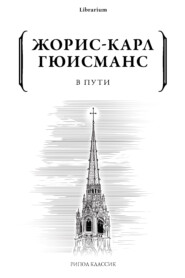По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Наоборот
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он составил их исключительно из цейлонских «кошачьих глаз», хризобериллов и синих халцедонов.
Эти три камня сверкали действительно таинственно и извращенно, с болью вырванные из холодной глубины своей мутной воды.
«Кошачий глаз» зеленовато-серого цвета, испещренный концентрическими жилами, которые как будто колебались, ежеминутно двигаясь в зависимости от освещения; хризоберилл с лазоревым волнистым лоском, пробегающим по молочному оттенку, разлитому внутри; синий халцедон, зажигающий синеватые огни фосфора на шоколадном темно-коричневом фоне.
Мастер отметил места, где должны быть вставлены камни.
– А края панциря? – спросил он дез Эссента.
Дез Эссент подумал сначала о некоторых опалах и гидрофанах; но эти камни, интересные колебанием своих цветов, изменчивостью своего блеска, слишком непокорны и неверны; у опала совершенно ревматическая чувствительность: игра его лучей изменяется от сырости, жары или холода; что касается гидрофана, то он горит только в воде и пышет своим серым жаром, только когда его намочат.
Наконец он остановился на таких минералах, которые чередовались бы своим отблеском: на компостельском гиацинте красного дерева, на зеленом аквамарине, бледном рубине цвета розового уксуса и зюдерманландском рубине цвета бледного сланца. Их слабой игры было достаточно, чтобы осветить темноту панциря и обнаружить ценности цветения камней, окружавших его узкой гирляндой неясных огней.
Спрятавшись в углу столовой, дез Эссент смотрел теперь на черепаху, светящуюся в полутьме.
Он чувствовал себя совершенно счастливым, он упивался блеском горящих венчиков на золотом фоне. И вдруг, вопреки привычной меланхолии, почувствовал аппетит. Он макал гренки в чашку с чаем, в настой безупречной смеси привезенных из Китая через Россию Ши-а-Фаюн и Мо-ю-тан с уместным дополнением желтых и ханских сортов.
Как всегда, он пил эту душистую жидкость из китайских фарфоровых чашек, называемых яичной скорлупой: так они были прозрачны и легки. И точно так же, как он признавал только эти восхитительные чашки, он неизменно употреблял для стола только настоящее позолоченное серебро, которое было чуть-чуть видно под тяжелым слоем слегка стертой позолоты, имеющей в этом виде оттенок старинной нежности, истощенной и умирающей.
Допив последний глоток, он вошел в свой кабинет и велел слуге принести черепаху, которая упорно не хотела двигаться.
Шел снег. При свете ламп за голубоватыми стеклами распускались льдистые травки, и иней, как рассыпанный сахар, искрился на оконных стеклах – в бутылочных донышках с золотыми ободками.
Глубокое молчание окутывало домик, онемевший в темноте. Дез Эссент задумался; полная дров жаровня наполняла комнату горячими испарениями; он приоткрыл окно.
Как огромная обивка из серебряного горностая на черном фоне, поднималось перед ним черное небо, усеянное белыми пятнами. Пронесся холодный ветер, ускорил взбудораженный полет снега и нарушил порядок красок.
Геральдическая обивка неба вывернулась, стала настоящим горностаем, белым с черными хвостиками, – от черных пятен ночного неба, разбросанных между хлопьями.
Он закрыл окно; слишком резкий переход от чрезмерной жары к холоду полной зимы оказался неприятен; он съежился около огня, и ему пришла мысль выпить, чтобы согреться.
Он пошел в столовую, где в шкафу, вделанном в одной из стен, стояли маленькие бочонки с серебряными кранами, на полочках из сандалового дерева.
Он называл это собрание бочонков с ликерами орга?ном для рта.
Трубочка могла соединить все краны, подчинить их одному движению таким образом, что когда прибор уже на месте, – стоит только нажать кнопку, скрытую в панели, чтобы все краны одновременно повернулись и наполнили напитком незаметно подставленные под них бокалы.
В это время орган был открыт. Ящики с надписями «флейта», «валторна», «целеста» – были выдвинуты и готовы к маневрам. Дез Эссент пил по глотку то тут, то там, разыгрывал внутренние симфонии, вызывая в горле ощущения, аналогичные с теми, какие музыка доставляет слуху.
Впрочем, каждый напиток, по мнению дез Эссента, соответствовал своим вкусом звуку какого-нибудь инструмента. Сухой кюрасо, например, соответствовал кларнету, певучесть которого кисловата и бархатиста; кюммель – гобою: его звонкий тенор гнусавит; мятная и анисовая водка – флейте, она подсахарена и подправлена перцем, мягка и щиплет в одно и то же время; а для полноты оркестра – вишневка яростно трубит в трубу, джин и виски горчат нёбо своими пронзительными взрывами корнет-а-пистонов и тромбонов; виноградная водка гремит оглушительным шумом труб, в то время как от хиосской ракии и других крепких напитков во рту катятся громовые удары цимбал и барабана.
Он думал также, что эта ассимиляция могла распространяться дальше, что под сводом нёба могли разыгрываться квартеты струнных инструментов: со скрипкой – старой водкой, крепкой и тонкой, острой и нежной; с альтом – замененным ромом, наиболее крепким, хриплым и глухим; с ратафией, раздражающей и тягучей, меланхолической и ласкающей, как виолончель, и, наконец, с контрабасом, вкусным, солидным и черным, как настоящий старый биттер. Можно было бы даже, если бы хотелось устроить квинтет, прибавить пятый инструмент – арфу, к которой подходил по своему правдоподобному сходству вибрирующий вкус и серебристый, сухой и порывистый тон тминной водки.
Соответствие шло еще дальше: в музыке ликеров существовало родство тонов; так, чтобы определить одну только ноту, – бенедиктин представляет, так сказать, минорный тон того алкоголя, мажорный тон которого винные карты – партитуры обозначают знаком зеленого шартреза.
Приняв однажды эти принципы, дез Эссент мог уже, благодаря своей богатой опытности, разыгрывать на своем языке молчаливые мелодии, немые похоронные марши, слушать в своем рту соло на мятной, дуэты на ратафии и роме. Он даже исполнял во рту настоящие музыкальные отрывки, следуя шаг за шагом за композитором, передавая его мысль, его эффекты и оттенки близкими соединениями или контрастами напитков, приблизительной и искусной смесью.
Иногда он сам сочинял мелодии, разыгрывая пасторали с легкой черносмородиновой, выводившей в его горле переливы жемчужных песен соловья с нежным шоколадным ликером, напевавшем паточные старинные мелодии: «Песня Эстеллы» и «Ах, матушка, узнай».
Но в этот вечер у дез Эссента не было никакого желания слушать вкус музыки; он ограничился лишь одной нотой клавиатуры своего органа, взяв маленький бокальчик, который он предварительно наполнил настоящим ирландским виски.
Он опустился в кресло и глотал этот сок, настоянный на овсе и ячмене; резкий запах креозота наполнил его рот. С каждым глотком мысль его следила за оживлявшимся теперь ощущением его нёба, шла по следам, оставленным вкусом виски и, благодаря фатальному сходству запахов, пробудила давно забытые воспоминания.
Этот едкий аромат невольно напомнил ему такой же запах, каким был наполнен его рот, когда дантисты работали в его деснах. Раз попав на этот след, его думы, сначала рассеянные по всем докторам, которых он знал, собрались, сосредоточились на одном из них, особенно запечатлевшемся в его памяти.
Это было три года назад; охваченный среди ночи отвратительной зубной болью, он завязал щеку, бросался на стулья, бегал как сумасшедший по своей комнате. Болел уже запломбированный коренной зуб; никакое лечение было невозможно; только щипцы дантиста могли устранить боль. Весь в лихорадке он ждал дня, решившись перенести самую тяжелую операцию, лишь бы она положила конец его страданиям.
Держа челюсть, он спрашивал себя, как быть. Дантисты, лечившие его, были богатые негоцианты, которых нельзя было видеть когда вздумается; нужно было условиться с ними относительно визитов, часов свиданий.
– Это невозможно, я не могу дольше медлить, – сказал он и решил идти к первому попавшемуся дантисту, бежать к народному зубодеру – к одному из тех людей с железным кулаком, которые если и не знают искусства, впрочем бесполезного, чистить костоед и заделывать дыры, то умеют вырывать с корнем с неподражаемой быстротой самые неподатливые обломки зубов; у этих открыто с самого утра, и они не заставляют ждать. Пробило наконец семь часов. Он поспешно вышел и, вспоминая знакомое имя механика, называвшего себя народным дантистом и жившего на углу набережной, бросился по улицам, кусая платок и едва удерживая слезы.
Подойдя к дому, который он узнал по громадной вывеске из черного дерева, на которой огромными буквами цвета тыквы красовалась фамилия «Гатонакс», и еще по двум стеклянным шкафчикам, где искусственные зубы были тщательно выравнены в челюстях из розового воска, скрепленные медными механическими пружинками, дез Эссент вспотел и задохнулся. Ужасный страх охватил его, дрожь побежала по коже, наступило успокоение; боль прекратилась; зуб замолк. Он в оцепенении стоял на тротуаре; но наконец он поборол боязнь, поднялся по темной лестнице и, шагая через несколько ступенек, вскарабкался на третий этаж. Там он очутился перед дверью, на которой эмалевая дощечка повторяла имя, бывшее на вывеске, написанное небесно-голубыми буквами.
Он позвонил, но потом, испугавшись больших красных плевков, замеченных им на ступеньках лестницы, быстро повернулся было, решив страдать зубами всю свою жизнь, но вдруг за его спиной послышался раздирающий крик, который наполнил всю лестницу и приковал испугавшегося дез Эссента к месту; в это время отворилась дверь, и старушка попросила его войти.
Страх его сменился стыдом; его ввели в столовую; хлопнула другая дверь, пропустив страшного гренадера в черных брюках и сюртуке; дез Эссент последовал за ним в другую комнату.
С этой минуты его ощущения стали неясны. Смутно вспоминал он, что опустился в кресло против окна; что, положив палец на зуб, пробормотал: «Он уже запломбирован; боюсь, что ничего нельзя сделать».
Мужчина пропустил мимо ушей эти объяснения, воткнув ему в рот громадный указательный палец; затем, ворча что-то в свои большие нафабренные усы, он взял со стола инструмент. Началась главная сцена. Уцепившись в ручки кресла, дез Эссент почувствовал в щеке холод, потом глаза его увидели тридцать шесть свечей, и перенося неслыханные боли, он начал бить ногами и блеять, как животное, которого режут.
Послышался треск – при выдергивании сломался коренной зуб; дез Эссенту показалось тогда, что ему отрывают голову, раздробляют череп; он потерял рассудок, выл изо всех сил, яростно защищался от мужчины, который опять бросался на него, как будто хотел запустить ему руку до самого живота.
Дантист порывисто отступил на шаг и, подняв тело, прикрепленное к челюсти, грубо бросил его в кресло, а сам, стоя у окна и тяжело дыша, тряс на кончике щипцов синий зуб, на котором висело что-то красное. Смирившись, дез Эссент наплевал полную чашку крови, отказал жестом вошедшей старушке, принесшей обломок его зуба, который она хотела было завернуть в газету, и, заплатив два франка, убежал, в свою очередь оставляя на ступеньках кровяные плевки; он очутился на улице радостный, помолодевший на десять лет, интересуясь малейшими вещами.
– Брр. – Вздрогнул он, опечаленный от наплыва этих воспоминаний. Он поднялся, чтобы разрушить ужасные чары этого видения, и, вернувшись к действительности, вспомнил о черепахе. Она все еще не двигалась; он потрогал ее – она была мертва. Конечно, привыкши к сидячей жизни, к жалкому существованию, проведенному под несчастным панцирем, она не могла вынести ослепительной роскоши, наложенной на нее, лучезарного облачения, в которое ее одели, драгоценных камней, которыми ей вымостили спину, как дароносицу.
V
В это же время, когда особенно обострилось желание дез Эссента забыть эту ненавистную эпоху мерзких рож, более властно заговорила и потребность не видеть больше картин, которые изображают человеческие лица, копошащиеся в Париже в четырех стенах или бродящие по улицам в поисках заработка.
Потеряв интерес к современной жизни, он решился не впускать в свою келью масок отвращения и жалости; он хотел тонкой и изящной картины, поэтичной в античной извращенности, далекой от наших нравов, далекой от наших дней.
Он хотел для услаждения своего ума и для утехи глаз несколько возбуждающих произведений, которые переносили бы его в неведомый мир, наводили бы его на след новых догадок, расшатывали бы его нервную систему многообразными истериками и кошмарами, беспечными и ужасными видениями.
Был один художник, талант которого приводил дез Эссента в восхищение, Гюстав Моро. Дез Эссент приобрел два его шедевра, и перед одним из них по ночам он отдавался грезам. Это было изображение Саломеи следующего содержания.
Во дворце, похожем на базилику мусульманско-византийской архитектуры, возвышался трон, подобный главному престолу собора, под бесчисленными сводами, из которых коренастые колонны струились, как романские столбы, украшенные разноцветными камнями, выложенные мозаикой, инкрустированные ляпис-лазурью и сардониксом.
В центре скинии, возвышаясь на престоле, к которому вели полукруглые ступени, сидел тетрарх Ирод, опершись руками на колени.
Лицо желтое, пергаментное, испещренное морщинами, истощенное годами; его длинная борода развевалась, как белое облако над звездами из драгоценных камней, которыми сияла надетая на нем златотканая одежда.
Вокруг этого изваяния неподвижного, застывшего в священной позе индусского бога курились благовония, разливающие облака дыма, сквозь которые, как фосфорические глаза животных, просвечивали огни камней, вставленных в стенки трона; дым поднялся и застыл под сводами, где смешался с голубой пылью ярких дневных лучей, падающих из купола.
В развращающем запахе благовоний, в разгоряченной атмосфере этой церкви Саломея с вытянутой левой рукой – жестом повеления, с согнутой правой рукой, держащей против лица большой лотос, медленно на носках подвигается под звуки гитары, струны которой перебирает женщина, сидящая на корточках.
С сосредоточенным, торжественным, почти священным лицом начинает она похотливый танец, который должен пробудить притупленные чувства старого Ирода; ее груди волнуются, и от трения крутящихся ожерелий соски их приподнимаются. На ее влажной коже сверкают алмазы, ее запястья, пояса, кольца сыплют искры; верх ее праздничной одежды, обшитой жемчугом, затканной серебряными разводами, украшенной золотой битью – панцирь из драгоценностей, на котором каждое звено из камня горит, скрещивает огненные змеи, шевелится на матовом теле, на коже, цвета чайной розы, как великолепное насекомое, с ослепительными крылышками, златоцветными точками, голубовато-стальным и зеленым, цветом павлина.
Эти три камня сверкали действительно таинственно и извращенно, с болью вырванные из холодной глубины своей мутной воды.
«Кошачий глаз» зеленовато-серого цвета, испещренный концентрическими жилами, которые как будто колебались, ежеминутно двигаясь в зависимости от освещения; хризоберилл с лазоревым волнистым лоском, пробегающим по молочному оттенку, разлитому внутри; синий халцедон, зажигающий синеватые огни фосфора на шоколадном темно-коричневом фоне.
Мастер отметил места, где должны быть вставлены камни.
– А края панциря? – спросил он дез Эссента.
Дез Эссент подумал сначала о некоторых опалах и гидрофанах; но эти камни, интересные колебанием своих цветов, изменчивостью своего блеска, слишком непокорны и неверны; у опала совершенно ревматическая чувствительность: игра его лучей изменяется от сырости, жары или холода; что касается гидрофана, то он горит только в воде и пышет своим серым жаром, только когда его намочат.
Наконец он остановился на таких минералах, которые чередовались бы своим отблеском: на компостельском гиацинте красного дерева, на зеленом аквамарине, бледном рубине цвета розового уксуса и зюдерманландском рубине цвета бледного сланца. Их слабой игры было достаточно, чтобы осветить темноту панциря и обнаружить ценности цветения камней, окружавших его узкой гирляндой неясных огней.
Спрятавшись в углу столовой, дез Эссент смотрел теперь на черепаху, светящуюся в полутьме.
Он чувствовал себя совершенно счастливым, он упивался блеском горящих венчиков на золотом фоне. И вдруг, вопреки привычной меланхолии, почувствовал аппетит. Он макал гренки в чашку с чаем, в настой безупречной смеси привезенных из Китая через Россию Ши-а-Фаюн и Мо-ю-тан с уместным дополнением желтых и ханских сортов.
Как всегда, он пил эту душистую жидкость из китайских фарфоровых чашек, называемых яичной скорлупой: так они были прозрачны и легки. И точно так же, как он признавал только эти восхитительные чашки, он неизменно употреблял для стола только настоящее позолоченное серебро, которое было чуть-чуть видно под тяжелым слоем слегка стертой позолоты, имеющей в этом виде оттенок старинной нежности, истощенной и умирающей.
Допив последний глоток, он вошел в свой кабинет и велел слуге принести черепаху, которая упорно не хотела двигаться.
Шел снег. При свете ламп за голубоватыми стеклами распускались льдистые травки, и иней, как рассыпанный сахар, искрился на оконных стеклах – в бутылочных донышках с золотыми ободками.
Глубокое молчание окутывало домик, онемевший в темноте. Дез Эссент задумался; полная дров жаровня наполняла комнату горячими испарениями; он приоткрыл окно.
Как огромная обивка из серебряного горностая на черном фоне, поднималось перед ним черное небо, усеянное белыми пятнами. Пронесся холодный ветер, ускорил взбудораженный полет снега и нарушил порядок красок.
Геральдическая обивка неба вывернулась, стала настоящим горностаем, белым с черными хвостиками, – от черных пятен ночного неба, разбросанных между хлопьями.
Он закрыл окно; слишком резкий переход от чрезмерной жары к холоду полной зимы оказался неприятен; он съежился около огня, и ему пришла мысль выпить, чтобы согреться.
Он пошел в столовую, где в шкафу, вделанном в одной из стен, стояли маленькие бочонки с серебряными кранами, на полочках из сандалового дерева.
Он называл это собрание бочонков с ликерами орга?ном для рта.
Трубочка могла соединить все краны, подчинить их одному движению таким образом, что когда прибор уже на месте, – стоит только нажать кнопку, скрытую в панели, чтобы все краны одновременно повернулись и наполнили напитком незаметно подставленные под них бокалы.
В это время орган был открыт. Ящики с надписями «флейта», «валторна», «целеста» – были выдвинуты и готовы к маневрам. Дез Эссент пил по глотку то тут, то там, разыгрывал внутренние симфонии, вызывая в горле ощущения, аналогичные с теми, какие музыка доставляет слуху.
Впрочем, каждый напиток, по мнению дез Эссента, соответствовал своим вкусом звуку какого-нибудь инструмента. Сухой кюрасо, например, соответствовал кларнету, певучесть которого кисловата и бархатиста; кюммель – гобою: его звонкий тенор гнусавит; мятная и анисовая водка – флейте, она подсахарена и подправлена перцем, мягка и щиплет в одно и то же время; а для полноты оркестра – вишневка яростно трубит в трубу, джин и виски горчат нёбо своими пронзительными взрывами корнет-а-пистонов и тромбонов; виноградная водка гремит оглушительным шумом труб, в то время как от хиосской ракии и других крепких напитков во рту катятся громовые удары цимбал и барабана.
Он думал также, что эта ассимиляция могла распространяться дальше, что под сводом нёба могли разыгрываться квартеты струнных инструментов: со скрипкой – старой водкой, крепкой и тонкой, острой и нежной; с альтом – замененным ромом, наиболее крепким, хриплым и глухим; с ратафией, раздражающей и тягучей, меланхолической и ласкающей, как виолончель, и, наконец, с контрабасом, вкусным, солидным и черным, как настоящий старый биттер. Можно было бы даже, если бы хотелось устроить квинтет, прибавить пятый инструмент – арфу, к которой подходил по своему правдоподобному сходству вибрирующий вкус и серебристый, сухой и порывистый тон тминной водки.
Соответствие шло еще дальше: в музыке ликеров существовало родство тонов; так, чтобы определить одну только ноту, – бенедиктин представляет, так сказать, минорный тон того алкоголя, мажорный тон которого винные карты – партитуры обозначают знаком зеленого шартреза.
Приняв однажды эти принципы, дез Эссент мог уже, благодаря своей богатой опытности, разыгрывать на своем языке молчаливые мелодии, немые похоронные марши, слушать в своем рту соло на мятной, дуэты на ратафии и роме. Он даже исполнял во рту настоящие музыкальные отрывки, следуя шаг за шагом за композитором, передавая его мысль, его эффекты и оттенки близкими соединениями или контрастами напитков, приблизительной и искусной смесью.
Иногда он сам сочинял мелодии, разыгрывая пасторали с легкой черносмородиновой, выводившей в его горле переливы жемчужных песен соловья с нежным шоколадным ликером, напевавшем паточные старинные мелодии: «Песня Эстеллы» и «Ах, матушка, узнай».
Но в этот вечер у дез Эссента не было никакого желания слушать вкус музыки; он ограничился лишь одной нотой клавиатуры своего органа, взяв маленький бокальчик, который он предварительно наполнил настоящим ирландским виски.
Он опустился в кресло и глотал этот сок, настоянный на овсе и ячмене; резкий запах креозота наполнил его рот. С каждым глотком мысль его следила за оживлявшимся теперь ощущением его нёба, шла по следам, оставленным вкусом виски и, благодаря фатальному сходству запахов, пробудила давно забытые воспоминания.
Этот едкий аромат невольно напомнил ему такой же запах, каким был наполнен его рот, когда дантисты работали в его деснах. Раз попав на этот след, его думы, сначала рассеянные по всем докторам, которых он знал, собрались, сосредоточились на одном из них, особенно запечатлевшемся в его памяти.
Это было три года назад; охваченный среди ночи отвратительной зубной болью, он завязал щеку, бросался на стулья, бегал как сумасшедший по своей комнате. Болел уже запломбированный коренной зуб; никакое лечение было невозможно; только щипцы дантиста могли устранить боль. Весь в лихорадке он ждал дня, решившись перенести самую тяжелую операцию, лишь бы она положила конец его страданиям.
Держа челюсть, он спрашивал себя, как быть. Дантисты, лечившие его, были богатые негоцианты, которых нельзя было видеть когда вздумается; нужно было условиться с ними относительно визитов, часов свиданий.
– Это невозможно, я не могу дольше медлить, – сказал он и решил идти к первому попавшемуся дантисту, бежать к народному зубодеру – к одному из тех людей с железным кулаком, которые если и не знают искусства, впрочем бесполезного, чистить костоед и заделывать дыры, то умеют вырывать с корнем с неподражаемой быстротой самые неподатливые обломки зубов; у этих открыто с самого утра, и они не заставляют ждать. Пробило наконец семь часов. Он поспешно вышел и, вспоминая знакомое имя механика, называвшего себя народным дантистом и жившего на углу набережной, бросился по улицам, кусая платок и едва удерживая слезы.
Подойдя к дому, который он узнал по громадной вывеске из черного дерева, на которой огромными буквами цвета тыквы красовалась фамилия «Гатонакс», и еще по двум стеклянным шкафчикам, где искусственные зубы были тщательно выравнены в челюстях из розового воска, скрепленные медными механическими пружинками, дез Эссент вспотел и задохнулся. Ужасный страх охватил его, дрожь побежала по коже, наступило успокоение; боль прекратилась; зуб замолк. Он в оцепенении стоял на тротуаре; но наконец он поборол боязнь, поднялся по темной лестнице и, шагая через несколько ступенек, вскарабкался на третий этаж. Там он очутился перед дверью, на которой эмалевая дощечка повторяла имя, бывшее на вывеске, написанное небесно-голубыми буквами.
Он позвонил, но потом, испугавшись больших красных плевков, замеченных им на ступеньках лестницы, быстро повернулся было, решив страдать зубами всю свою жизнь, но вдруг за его спиной послышался раздирающий крик, который наполнил всю лестницу и приковал испугавшегося дез Эссента к месту; в это время отворилась дверь, и старушка попросила его войти.
Страх его сменился стыдом; его ввели в столовую; хлопнула другая дверь, пропустив страшного гренадера в черных брюках и сюртуке; дез Эссент последовал за ним в другую комнату.
С этой минуты его ощущения стали неясны. Смутно вспоминал он, что опустился в кресло против окна; что, положив палец на зуб, пробормотал: «Он уже запломбирован; боюсь, что ничего нельзя сделать».
Мужчина пропустил мимо ушей эти объяснения, воткнув ему в рот громадный указательный палец; затем, ворча что-то в свои большие нафабренные усы, он взял со стола инструмент. Началась главная сцена. Уцепившись в ручки кресла, дез Эссент почувствовал в щеке холод, потом глаза его увидели тридцать шесть свечей, и перенося неслыханные боли, он начал бить ногами и блеять, как животное, которого режут.
Послышался треск – при выдергивании сломался коренной зуб; дез Эссенту показалось тогда, что ему отрывают голову, раздробляют череп; он потерял рассудок, выл изо всех сил, яростно защищался от мужчины, который опять бросался на него, как будто хотел запустить ему руку до самого живота.
Дантист порывисто отступил на шаг и, подняв тело, прикрепленное к челюсти, грубо бросил его в кресло, а сам, стоя у окна и тяжело дыша, тряс на кончике щипцов синий зуб, на котором висело что-то красное. Смирившись, дез Эссент наплевал полную чашку крови, отказал жестом вошедшей старушке, принесшей обломок его зуба, который она хотела было завернуть в газету, и, заплатив два франка, убежал, в свою очередь оставляя на ступеньках кровяные плевки; он очутился на улице радостный, помолодевший на десять лет, интересуясь малейшими вещами.
– Брр. – Вздрогнул он, опечаленный от наплыва этих воспоминаний. Он поднялся, чтобы разрушить ужасные чары этого видения, и, вернувшись к действительности, вспомнил о черепахе. Она все еще не двигалась; он потрогал ее – она была мертва. Конечно, привыкши к сидячей жизни, к жалкому существованию, проведенному под несчастным панцирем, она не могла вынести ослепительной роскоши, наложенной на нее, лучезарного облачения, в которое ее одели, драгоценных камней, которыми ей вымостили спину, как дароносицу.
V
В это же время, когда особенно обострилось желание дез Эссента забыть эту ненавистную эпоху мерзких рож, более властно заговорила и потребность не видеть больше картин, которые изображают человеческие лица, копошащиеся в Париже в четырех стенах или бродящие по улицам в поисках заработка.
Потеряв интерес к современной жизни, он решился не впускать в свою келью масок отвращения и жалости; он хотел тонкой и изящной картины, поэтичной в античной извращенности, далекой от наших нравов, далекой от наших дней.
Он хотел для услаждения своего ума и для утехи глаз несколько возбуждающих произведений, которые переносили бы его в неведомый мир, наводили бы его на след новых догадок, расшатывали бы его нервную систему многообразными истериками и кошмарами, беспечными и ужасными видениями.
Был один художник, талант которого приводил дез Эссента в восхищение, Гюстав Моро. Дез Эссент приобрел два его шедевра, и перед одним из них по ночам он отдавался грезам. Это было изображение Саломеи следующего содержания.
Во дворце, похожем на базилику мусульманско-византийской архитектуры, возвышался трон, подобный главному престолу собора, под бесчисленными сводами, из которых коренастые колонны струились, как романские столбы, украшенные разноцветными камнями, выложенные мозаикой, инкрустированные ляпис-лазурью и сардониксом.
В центре скинии, возвышаясь на престоле, к которому вели полукруглые ступени, сидел тетрарх Ирод, опершись руками на колени.
Лицо желтое, пергаментное, испещренное морщинами, истощенное годами; его длинная борода развевалась, как белое облако над звездами из драгоценных камней, которыми сияла надетая на нем златотканая одежда.
Вокруг этого изваяния неподвижного, застывшего в священной позе индусского бога курились благовония, разливающие облака дыма, сквозь которые, как фосфорические глаза животных, просвечивали огни камней, вставленных в стенки трона; дым поднялся и застыл под сводами, где смешался с голубой пылью ярких дневных лучей, падающих из купола.
В развращающем запахе благовоний, в разгоряченной атмосфере этой церкви Саломея с вытянутой левой рукой – жестом повеления, с согнутой правой рукой, держащей против лица большой лотос, медленно на носках подвигается под звуки гитары, струны которой перебирает женщина, сидящая на корточках.
С сосредоточенным, торжественным, почти священным лицом начинает она похотливый танец, который должен пробудить притупленные чувства старого Ирода; ее груди волнуются, и от трения крутящихся ожерелий соски их приподнимаются. На ее влажной коже сверкают алмазы, ее запястья, пояса, кольца сыплют искры; верх ее праздничной одежды, обшитой жемчугом, затканной серебряными разводами, украшенной золотой битью – панцирь из драгоценностей, на котором каждое звено из камня горит, скрещивает огненные змеи, шевелится на матовом теле, на коже, цвета чайной розы, как великолепное насекомое, с ослепительными крылышками, златоцветными точками, голубовато-стальным и зеленым, цветом павлина.
Другие электронные книги автора Жорис Карл Гюисманс
Другие аудиокниги автора Жорис Карл Гюисманс
Наоборот




 0
0