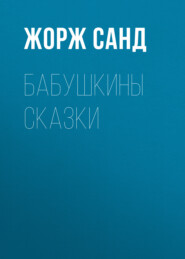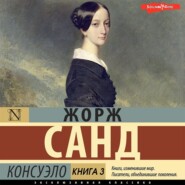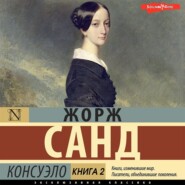По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Консуэло
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На графа Альберта Консуэло едва решалась взглянуть – именно потому, что только он один возбуждал в ней живое любопытство. Она не знала еще, как он относится к ее появлению. Проходя через гостиную, она увидела его в зеркале и успела заметить, что одет он очень изысканно, хотя по-прежнему в черном. У него, несомненно, был весьма аристократический вид, но борода, длинные, небрежно свисавшие волосы и загорелое, с желтоватым отливом лицо придавали ему сходство с красивым, мечтательным рыбаком с берегов Адриатического моря.
Однако звучность его голоса, приятно ласкавшая музыкальное ухо Консуэло, мало-помалу придала ей храбрости, и она подняла на него глаза. Ее удивило, что у него облик и манеры вполне здравомыслящего человека. Говорил он мало, но рассудительно, а когда она встала из-за стола, подал ей руку, правда не глядя на нее (этой чести он не оказывал ей со вчерашнего дня), но весьма непринужденно и учтиво. Вся дрожа, вложила она свою руку в руку этого фантастического героя рассказов и сновидений прошлой ночи: она ожидала, что эта рука должна быть ледяной, как у мертвеца, но рука оказалась теплой и мягкой, как у совершенно здорового человека. Впрочем, Консуэло едва ли была в состоянии дать себе в этом отчет. Она была до того взволнована, что у нее чуть не закружилась голова, а взгляд Амалии, следившей за каждым ее движением, мог бы окончательно смутить ее, если бы она не вооружилась всей силой воли, чтобы сохранить свое достоинство перед этой насмешливой молодой девушкой. Когда граф Альберт, доведя ее до кресла, низко поклонился ей, она ответила на его поклон, но при этом они не обменялись ни единым словом, ни единым взглядом.
– Знаете, коварная Порпорина, – начала Амалия, садясь рядом с подругой, чтобы удобнее было шептать ей на ухо, – вы делаете чудеса с моим кузеном!
– Пока что я этого не замечаю, – ответила Консуэло.
– Это потому, что вы не соблаговолили обратить внимание на то, как он ведет себя по отношению ко мне. За целый год он ни разу не предложил мне руки, чтобы проводить к столу или из-за стола, тогда как в отношении вас он проделал это как нельзя более любезно! Правда, сегодня он, по-видимому, переживает минуты просветления. Можно подумать, что вы принесли ему и рассудок и здоровье. Но не придавайте этому значения, Нина. С вами повторится то же, что было со мной: три дня он будет предупредителен, радушен, а потом забудет даже о вашем существовании.
– Я вижу, что мне придется привыкать здесь к шуткам, – сказала Консуэло.
– Не правда ли, дорогая тетушка, – обратилась Амалия вполголоса к канониссе, которая подошла и уселась между ней и Консуэло, – не правда ли, мой кузен чрезвычайно любезен с милой Порпориной?
– Не насмехайтесь над ним, Амалия, – кротко ответила Венцеслава. – Синьора и без того скоро узнает причину наших горестей.
– Я ничуть не насмехаюсь, тетушка. Альберт сегодня прекрасно выглядит, и я радуюсь, видя его таким, каким, мне кажется, он ни разу не был с тех пор, как я здесь. Если б он еще побрился да напудрил волосы, как все, можно было бы подумать, что он никогда не был болен.
– В самом деле, его спокойный и здоровый вид приятно поражает меня, – сказала канонисса, – но я уже боюсь верить, что такое счастье может длиться долго.
– Каким добрым и благородным он выглядит! – заметила Консуэло, желая завоевать сердце канониссы похвалой ее любимцу.
– Вы находите? – спросила Амалия, пронизывая подругу лукавым и шаловливым взглядом.
– Да, нахожу, – ответила Консуэло решительно. – Я еще вчера вечером сказала вам, синьора, что никогда ни одно лицо не внушало мне такого уважения, как лицо вашего кузена.
– О милая девушка! – воскликнула канонисса, вдруг отбрасывая свою чопорность и горячо сжимая руку Консуэло. – Добрые сердца быстро узнают друг друга. Я так боялась, что наш Альберт может напугать вас! Мне очень тяжко бывает читать на лицах людей отчуждение, которое вызывают подобные болезни. Но вы, я вижу, отзывчивый человек и сразу поняли, что в этом больном, измученном теле скрывается возвышенная душа, достойная лучшей доли.
Консуэло, тронутая до слез словами добрейшей канониссы, порывисто поцеловала ей руку. Она уже чувствовала больше симпатии и доверия к этой горбатой старухе, чем к блестящей и легкомысленной Амалии.
Разговор их прервал барон Фридрих, который, расхрабрившись, подошел к синьоре Порпорине, чтобы попросить ее об одном одолжении. Еще более неловкий в дамском обществе, чем старший брат (эта застенчивость, очевидно, была у них в роду, а потому неудивительно, что она дошла до крайней степени у графа Альберта), барон скороговоркой пробормотал какую-то речь, пересыпая ее множеством извинений, которые Амалия постаралась перевести и объяснить Консуэло.
– Мой отец спрашивает, – сказала Амалия, – чувствуете ли вы себя в силах после такого утомительного путешествия приняться за музыку и не злоупотребим ли мы вашей добротой, если попросим прослушать мое пение и высказать свое мнение о постановке моего голоса.
– С удовольствием, – ответила Консуэло, быстро подходя к клавесину и открывая его.
– Вот увидите, – шепнула ей Амалия, устанавливая ноты на пюпитр, – Альберт сейчас же сбежит, как ни прекрасны ваши глаза и мои.
Действительно, не успела Амалия взять несколько нот, как Альберт встал и вышел из комнаты на цыпочках, очевидно надеясь быть незамеченным.
– Уже и то хорошо, – все так же тихо сказала Амалия, продолжая наигрывать на клавесине и перескакивая через несколько тактов, – что он со злости не хлопнул дверью, как обыкновенно делает, когда я начинаю петь. Сегодня он чрезвычайно любезен, можно сказать – даже мил.
Капеллан тут же подошел к клавесину, надеясь скрыть этим исчезновение Альберта, и сделал вид, будто поглощен пением. Остальные члены семьи, усевшись полукругом в отдалении, почтительно ожидали приговора, который Консуэло должна была вынести своей ученице.
Амалия храбро выбрала арию из «Ахилла на Скиросе» Перголезе[49 - «Ахилл на Скиросе» Перголезе. – Сюжет, связанный с пребыванием Ахилла на острове Скирос, где его нашли Одиссей и Диомед, широко использован в операх XVII–XVIII вв. Пьеса П. Метастазио послужила основой более чем 30 опер, однако у Перголези нет оперы с таким названием. Возможно, имеется в виду опера А. Кальдары или Н. Йоммелли.] и пропела ее от начала до конца свежим, резким голосом, очень уверенно, но с таким потешным немецким акцентом, что Консуэло, никогда ничего подобного не слыхавшая, делала неимоверные усилия, чтобы не улыбнуться. Ей достаточно было прослушать несколько тактов, дабы убедиться, что юная баронесса не имеет ни малейшего понятия о настоящей музыке. Голос у нее был гибкий, быть может, она даже когда-то брала уроки у хорошего учителя, но природное легкомыслие мешало ей усвоить основательно что бы то ни было. По той же причине, переоценивая свои силы, она с чисто немецким хладнокровием исполняла самые смелые и трудные пассажи и, нимало не смущаясь, искажала их. Рассчитывая загладить свои промахи, она форсировала интонацию, усиливала аккомпанемент, восстанавливала нарушенный ритм, добавляя новые такты взамен пропущенных, и изменяла всем этим характер музыки до такой степени, что Консуэло, не имей она перед глазами нот, пожалуй, совсем не узнала бы исполняемой вещи.
Между тем граф Христиан, который прекрасно разбирался в музыке, но воображал, судя по себе, что племянница страшно смущена, время от времени повторял, чтобы ободрить ее:
– Хорошо, Амалия, хорошо! Отличная музыка, право же, отличная!
Канонисса, мало понимавшая в пении, озабоченно смотрела на Консуэло, стараясь предугадать ее мнение по выражению глаз, а барон, не признававший никакой иной музыки, кроме звука охотничьего рога, считал, что дочь его поет слишком хорошо, чтобы он мог оценить всю прелесть ее пения, и доверчиво ждал одобрения судьи. Один капеллан был в восторге от этих рулад: никогда до приезда Амалии ему не приходилось слышать ничего подобного, и он, блаженно улыбаясь, покачивал в такт своей большой головой.
Консуэло отлично поняла, что сказать чистую правду значило бы нанести удар всему семейству. Она решила с глазу на глаз объяснить своей ученице, что именно ей следует забыть, прежде чем чему-нибудь научиться, а пока ограничилась тем, что похвалила ее голос, расспросила о занятиях и одобрила выбор пройденных ею вещей, умолчав при этом, что проходились они совсем не так, как следовало.
Все разошлись очень довольные этим испытанием, жестоким лишь для Консуэло. Она ощутила потребность запереться в своей комнате и, перечитывая ноты музыкального произведения, которое только что слышала опошленным, мысленно пропела его, чтобы изгладить в своем мозгу непонятное впечатление.
XXX
Когда под вечер все снова собрались вместе, Консуэло почувствовала себя более непринужденно с этими людьми – она уже успела несколько освоиться с ними – и начала отвечать менее сдержанно и кратко на вопросы, которые те, со своей стороны, уже смелее задавали ей, интересуясь ее страной, ее искусством и ее путешествиями. Она тщательно избегала говорить о себе – это было решено ею заранее – и, рассказывая о среде, в которой ей приходилось жить, умалчивала о той роли, которую сама в ней играла. Тщетно старалась любопытная Амалия заставить ее больше рассказать о себе, – Консуэло не попалась на эту удочку и ничем не выдала своего инкогнито, которое решила сохранить во что бы то ни стало. Трудно было сказать, почему эта таинственность так привлекала ее. Причин было много: начать с того, что она клятвенно обещала Порпоре всячески скрываться и стушевываться, чтобы Андзолето, в случае если бы он стал ее разыскивать, не мог напасть на ее след, – совершенно излишняя предосторожность, ибо Андзолето после нескольких слабых попыток найти ее быстро оставил эту мысль, всецело поглощенный в ту пору своими дебютами и своим успехом в Венеции.
С другой стороны, стремясь завоевать расположение и уважение семьи, временно приютившей ее, печальную и одинокую, Консуэло прекрасно понимала, что здесь к ней лучше отнесутся как к обыкновенной музыкантше, ученице Порпоры и преподавательнице пения, чем к примадонне, к актрисе, знаменитой певице. Ей было ясно, что, узнай эти простодушные, набожные люди о ее прошлом, ее положение среди них было бы гораздо труднее, и весьма возможно, что, несмотря на рекомендацию Порпоры, прибытие певицы Консуэло, дебютировавшей с таким блеском в театре Сан-Самуэле, могло бы изрядно напугать их. Но даже не будь этих двух важных причин, Консуэло все равно ощущала бы потребность молчать, никого не посвящая в радостные и горестные минуты своей судьбы. В ее жизни так все перепуталось – и сила и слабость, и слава и любовь. Она не могла приподнять ни малейшего уголка завесы, не обнаружив хоть одну из ран своей души, а раны эти были еще слишком свежи, слишком глубоки, чтобы чья-нибудь человеческая рука могла облегчить их. Напротив, она чувствовала некоторое облегчение именно благодаря этой стене, воздвигнутой между ее мучительными воспоминаниями и спокойствием новой, деятельной жизни. Перемена страны, среды, имени сразу перенесла ее в незнакомую обстановку, где она жаждала, играя совершенно другую роль, стать каким-то новым существом.
Это полное отречение от радостей тщеславия, которые утешили бы другую женщину, было спасением для отважной души Консуэло. Отказавшись от людского сострадания и людской славы, она надеялась на помощь свыше. «Надо вернуть хоть частицу былого счастья, – говорила она себе, – счастья, которым я долго наслаждалась и которое заключалось целиком в моей любви к людям и в их любви ко мне. В тот день, когда я погналась за их поклонением, я лишилась их любви, слишком уж дорого заплатив за почести, которыми они заменили свое прежнее расположение. Стану же снова незаметной и скромной, чтобы не иметь на земле ни завистников, ни неблагодарных, ни врагов. Малейшее проявление симпатии сладостно, а к выражению величайшего восхищения неизбежно примешивается горечь. Бывают сердца тщеславные и сильные, которые довольствуются похвалами и тешатся торжеством, – мое не таково: мне дорого обошлось это испытание. Увы! Слава похитила у меня сердце моего возлюбленного, пусть же смирение возвратит мне хоть несколько друзей!..»
Не то имел в виду Порпора, отсылая Консуэло из Венеции и избавляя ее этим от опасностей и мук любви. Прежде чем снова выпустить ее на арену честолюбия, прежде чем вернуть ее к бурям артистической жизни, он хотел только дать ей некоторую передышку. Он недостаточно хорошо знал свою ученицу. Он считал ее более женщиной, то есть более изменчивой, чем она была на самом деле. Думая о ней сейчас, он не представлял ее себе такой спокойной, ласковой, думающей о других, какой она уже принудила себя быть. Она рисовалась ему вся в слезах, терзаемая сожалениями. Но он ждал, что скоро произойдет реакция, что он найдет ее излечившейся от любви и жаждущей снова проявить свои силы, свой гений.
То чистое, святое чувство, с которым Консуэло отнеслась к своей роли в семье Рудольштадтов, с первого же дня невольно отразилось на ее словах, поступках, выражении ее лица. Кто видел ее сияющей любовью и счастьем под горячими лучами солнца Венеции, вряд ли смог бы понять, как может она быть так спокойна и ласкова среди чужих людей, в глубине дремучих лесов, когда любовь ее поругана в прошлом и не имеет будущего. Однако доброта черпает силы там, где гордость находит лишь отчаяние. В этот вечер Консуэло была прекрасна какой-то новой красотой. То было не оцепенение сильной натуры, еще не познавшей себя и ожидающей своего пробуждения, не расцвет силы, рвущейся вперед с удивлением и восторгом. Словом, то была уже не потаенная, еще не понятая красота прежней scolare zingarella[23 - Ученицы-цыганочки (ит.).], не блестящая, захватывающая красота прославленной певицы, – теперь это была нежная, пленительная прелесть чистой, углубившейся в себя женщины, которая знает самое себя и руководится святостью своих побуждений.
Ее хозяева, простодушные и сердечные старики, движимые инстинктивным стремлением ко всему благородному, впитывали, если можно так выразиться, таинственное благоухание, изливавшееся на них из ангельской души Консуэло. Глядя на нее, они испытывали какое-то отрадное чувство, в котором, быть может, и не отдавали себе отчета, но сладость которого наполняла их словно новой жизнью. Даже сам Альберт, казалось, впервые дал полную свободу проявлению своих способностей. Он был предупредителен и ласков со всеми, а с Консуэло – в пределах учтивости, и, разговаривая с нею, доказал, что вовсе не утратил, как думали до сих пор окружающие, возвышенный ум и ясность суждения, дарованные ему природой. Барон не заснул, канонисса ни разу не вздохнула, а граф Христиан, который обычно с грустью опускался по вечерам в свое кресло, сгорбленный тяжестью лет и горя, на этот раз все время стоял, прислонившись спиной к камину, олицетворяя собою как бы средоточие своей семьи и принимая участие в непринужденной, почти веселой беседе, длившейся без перерыва до девяти часов вечера.
– Видно, Господь услышал наши горячие молитвы, – обратился капеллан к графу Христиану и к канониссе, оставшимся в гостиной после ухода барона и молодежи. – Графу Альберту сегодня исполнилось тридцать лет, и этот знаменательный день, которого так боялись и он и мы, прошел необыкновенно счастливо и благополучно.
– Да, возблагодарим Господа! – проговорил старый граф. – Не знаю, быть может, это только благодетельная иллюзия, ниспосланная нам для временного утешения, но в течение всего дня, а особенно вечером, я был убежден, что мой сын излечился навсегда.
– Простите меня, – заметила канонисса, – но мне кажется, что вы, братец, и вы, господин капеллан, оба заблуждались, думая, будто Альберта мучит враг рода человеческого. Я же всегда верила в то, что он во власти двух противоположных сил, которые оспаривают одна у другой его душу: ведь часто после речей, словно внушенных ему злым ангелом, его устами спустя минуту говорило само Небо. Вспомните все, что он сказал вчера вечером во время грозы, и особенно его последние слова перед уходом: «Мир Господень снизошел на этот дом». Альберт почувствовал, что на него снизошла Божья благодать, и я верю в его исцеление, как в чудо, обещанное Богом.
Капеллан был слишком робок, чтобы сразу согласиться с таким смелым утверждением. Обычно он выходил из затруднения, прибегая к таким сентенциям, как «Возложим наши упования на вечную премудрость», «Господь читает то, что сокрыто», «Дух погружается в Бога», и к разным другим – скорее утешительным, чем новым.
Граф Христиан колебался между желанием согласиться с суровыми догмами своей доброй сестры, нередко направленными в сторону чудесного, и уважением к робкому и осторожному догматизму капеллана. Чтобы переменить тему, он заговорил о Порпорине, с большой похвалой отозвавшись о ее прекрасной манере держать себя. Канонисса, успевшая уже полюбить девушку, горячо присоединилась к похвалам брата, а капеллан благословил их сердечное влечение к ней. Ни одному из них и в голову не пришло объяснить присутствием Консуэло чудо, свершившееся в их семье. Они получили благо, не зная его источника; это было именно то, о чем Консуэло стала бы молить Бога, если бы ее спросили, чего она хочет.
Наблюдения Амалии были более точны. Теперь для нее было ясно, что ее двоюродный брат настолько владеет собой, когда это нужно, что может скрыть хаотичность своих мыслей при людях, не внушающих ему доверия или, наоборот, пользующихся его особенным уважением. При некоторых друзьях и родственниках, к которым он чувствовал симпатию или антипатию, он никогда не проявлял ни малейшей странности своего характера. И вот, когда Консуэло выразила свое удивление по поводу ее вчерашних рассказов, Амалия, мучимая тайной досадой, попыталась вновь разжечь в девушке тот ужас перед Альбертом, который она вызвала в ней накануне.
– Ах, друг мой, – сказала она, – не доверяйте этому обманчивому спокойствию: это не что иное, как обычный светлый промежуток между двумя припадками. Нынче вы его видели таким, каким видела его и я, когда приехала сюда в начале прошлого года. Увы! Если бы воля родных предназначила вас в жены подобному маньяку, если бы, желая победить ваше молчаливое сопротивление, они составили молчаливый заговор и до бесконечности держали вас пленницей в этом ужасном замке, в этой атмосфере постоянных неожиданностей, страхов, волнений, слез, заклинаний, сумасбродств, если бы вам пришлось ждать выздоровления, в которое все верят, но которое никогда не наступит, – вы, как и я, разочаровались бы в прекрасных манерах Альберта и в сладких речах его семьи.
– Мне кажется просто невероятным, – сказала Консуэло, – что вас могут принудить выйти замуж за человека, которого вы не любите. Ведь вы, по-видимому, кумир всех ваших родных.
– Меня ни к чему не могут принудить, – они прекрасно знают, что из этого ничего не вышло бы. Но они забывают, что Альберт не единственный подходящий для меня супруг, и одному Богу известно, когда в них умрет наконец нелепая надежда на то, что я снова могу полюбить его, как любила в первое время после своего приезда. К тому же мой отец, будучи страстным охотником, чувствует себя прекрасно в этом проклятом замке, где такая чудесная охота, и всегда под каким-нибудь предлогом откладывает наш отъезд, который предполагался уже двадцать раз, но так и не был осуществлен. Ах, милая Нина, если бы вы нашли способ в одну ночь извести всю дичь в округе, вы оказали бы мне величайшую услугу.
– К сожалению, я могу лишь развлечь вас музыкой и разговорами в те вечера, когда вам не захочется спать. Постараюсь быть для вас и успокоительным средством, и снотворным.
– Да, вы напомнили мне, что я еще не докончила вам своего рассказа. Начну сейчас же, чтобы вы могли сегодня заснуть пораньше…
Только через несколько дней после своего таинственного исчезновения (он продолжал пребывать в уверенности, что его недельное отсутствие длилось всего семь часов) Альберт заметил, что аббата нет в замке, и спросил, куда его отправили.
«Он был больше не нужен вам, – ответили ему, – и вернулся к своим делам. Разве до сих пор вы не замечали его отсутствия?»
«Я заметил, – ответил Альберт, – что чего-то недостает моим страданиям, но не мог отдать себе отчета – чего именно».
«Так вы очень страдаете, Альберт?» – спросила канонисса.