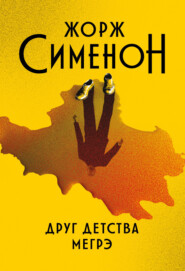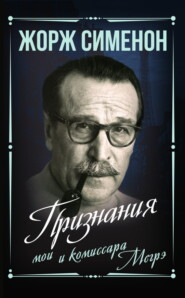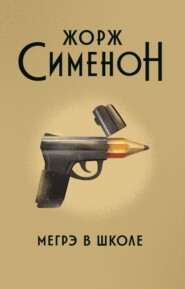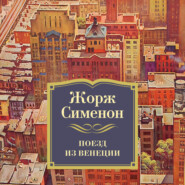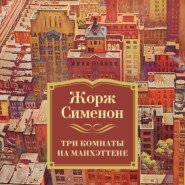По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три комнаты на Манхэттене
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не мог же он в самом деле злиться из-за того, что их новая служанка зовется Элеонорой!
Он принялся за еду, но, не кончив тарелки, вдруг заметил, что со свистом втягивает суп, сидит, низко нагнувшись над столом, громко отдувается, как плохо воспитанные дети или крестьяне.
Он покосился на Николь. Она не глядела в его сторону. Привыкла к этому! Ела она аккуратно, думая о чем-то своем.
И тут он поспешно, даже слишком поспешно снова уткнулся в тарелку, потому что без всяких видимых причин с ним случилось нечто идиотское, невероятно идиотское, в чем он сам не разобрался и что не должно было случиться: у него вдруг защипало в глазах, лицо вспухло.
Хорошенький, должно быть, у него вид!
Но ведь эти поганые ребята…
– Куда вы идете, отец?
Она назвала его отцом! Не папой же его называть! Только этого недоставало! Он был просто не в состоянии сразу ответить на ее вопрос. Швырнув скомканную салфетку на стул, он направился к двери.
И только на пороге ему удалось выдавить из себя:
– К тете Марте! Уф!
Но самое невероятное было то, что он действительно надел пальто и пошел к Марте.
V
У него было такое впечатление, будто он погружается в самую гущу жизни. Он делал давно забытые жесты и движения, возможно, делал их всегда, но как-то не отдавая себе в этом отчета, – например, зябко поднял воротник пальто, поглубже засунул руки в карманы, наслаждаясь холодом и дождем, тайной, которую хранили эти улицы, все пятнистые, все блестящие от света.
Еще спешили куда-то прохожие, и он даже подумал: куда идут все эти люди? Как давно ему не доводилось вечерами выходить из дома? На улице Алье прибавились новые огни, и кинотеатр помещался не там, где прежний, извещавший о начале сеанса непрерывным дребезжанием звонка.
Лурса шагал быстро. Пока еще он поглядывал на людей и предметы искоса, словно стыдясь своего любопытства. С первого раза он не сдастся. Он бормотал что-то себе под нос. Когда он позвонил у двери дома Доссенов – сплошное стекло и чугун, – к нему уже вернулась обычная озлобленность, и она сверкнула в презрительном взгляде, которым Лурса смерил одетого наподобие бармена, в белую курточку, дворецкого, бросившегося снимать с посетителя пальто.
– Где сестра?
– Мадам в малом будуаре. Не угодно ли месье следовать за мной?
А что, если взять и не вытереть ног, просто так, из протеста против этого белоснежного холла, против всей этой новизны, этого модерна, против всей этой кричащей роскоши? Конечно, он этого не сделал, но все-таки подумал.
Затем зажег сигарету, а спичку кинул на пол.
– Входите, Гектор… Закройте дверь, Жозеф… Когда месье Эдмон вернется, попросите его пройти прямо ко мне.
Лурса уже весь ощетинился, как кабан. Он не любил сестру, хотя она ничего худого ему не сделала. Он сердился на нее за ее страдающий вид, за ее вялую и тусклую элегантность, а может быть, еще и за то, что она вышла замуж за Доссена, живет в этом особняке и держит великолепно вышколенную прислугу.
Но тут не было зависти. Доссены не богаче его самого.
– Садитесь, Гектор… Как мило с вашей стороны, что вы пришли… Вы не заглянули по дороге в суд? Что вам, в сущности, известно? Что вам сказала Николь? Надеюсь, вы заставили ее все сказать…
– Ничего я не знаю, кроме того, что они в моем доме убили человека!
В эту минуту он спрашивал самого себя, почему он так не любит Доссенов, и не находил достаточно убедительного ответа. Конечно, он презирал их за тщеславие, за особняк, который они себе построили и который стал смыслом их жизни. Сам Доссен со своими усиками, пропахшими ликером или духами сомнительных дам, был в его глазах олицетворением счастливого болвана.
– Неужели вы, Гектор, хотите сказать, что это дети…
– Очень похоже…
Она поднялась с кушетки, забыв о своих болях – после рождения Эдмона у нее вечно ныл живот.
– Вы с ума сошли! А если вы шутите, так это просто гнусно. Вы же знаете, я вся дрожу. И звонила я вам потому, что не в силах одна справиться со своей тревогой. Вы пришли ко мне! Это целое событие! Но вы, оказывается, пришли лишь затем, чтобы цинично заявить, что наши дети…
– Вы, по-моему, хотели знать правду?
В сущности, если бы в свое время ничего не произошло, теперь его жене – ибо тогда он имел бы жену – было бы почти столько же лет, сколько Марте. Интересно, поддались бы и они тоже поветрию, охватившему в последние годы все богатые семьи Мулэна, построили бы себе новый дом или нет?
Трудно сказать. Кроме того, глядя на сестру, он думал разом о множестве вещей. Особенно остро он чувствовал, что не может представить себя женатым, возможно, даже отцом других детей, не знает, чем бы он занимался все эти годы.
– Послушайте, Гектор! Я знаю, что вы не всегда бываете в нормальном состоянии. Возможно, вы сегодня уже выпили. Но поймите, сейчас не время сидеть взаперти в своей грязной норе! В том, что произошло, есть доля и вашей вины. Если бы вы воспитали свою дочь как полагается…
– Послушайте, Марта, вы меня позвали для того, чтобы ругать?
– Да, если только таким путем вы сможете осознать свой долг!.. Эти дети не несут ответственности… В каком другом доме они могли собираться ночами и вытворять глупости?.. Знаете, о чем я думаю? Действительно ли вы не были в курсе всего, что у вас творилось?.. А теперь вы не хотите пальцем пошевелить… Вы же адвокат… В суде вас жалеют, но уважают, несмотря ни на что…
Она так и сказала – «несмотря ни на что!». Сказала, что его жалеют.
– Не знаю, похожа ли Николь на свою мать, но…
– Марта!
– Что?
– Поди сюда…
– Зачем?
Чтобы дать ей пощечину! Он и дал, и сам не меньше сестры удивился своему жесту. И проворчал:
– Поняла?
Впервые с тех пор, как они стали взрослыми, он обратился к ней на «ты».
– Я ведь не интересуюсь ни твоим супругом, ни…
И замолчал. Замолчал вовремя. Неужели же он, который презирает их всех – и этих, и тех, – он, у которого хватило силы восемнадцать лет просидеть в одиночку в своем углу, в своей норе, прибегнет к подобным аргументам? Возьмет да и крикнет сестре, что ее муж, вечно находящийся в разъездах, обманывает жену на каждом шагу, что весь город это знает, она сама это знает и что ее вечные недомогания и плохое здоровье их Эдмона дружно приписывают застарелой дурной болезни?!
Он неуклюже тыкался по комнате в поисках своей шляпы, забыв, что ее взял дворецкий. Марта плакала. Трудно было сейчас представить себе, что обоим уже за сорок, что оба они, что называется, люди рассудительные.
– Вы уходите?
– Да.
– И не дождетесь Эдмона?
Он принялся за еду, но, не кончив тарелки, вдруг заметил, что со свистом втягивает суп, сидит, низко нагнувшись над столом, громко отдувается, как плохо воспитанные дети или крестьяне.
Он покосился на Николь. Она не глядела в его сторону. Привыкла к этому! Ела она аккуратно, думая о чем-то своем.
И тут он поспешно, даже слишком поспешно снова уткнулся в тарелку, потому что без всяких видимых причин с ним случилось нечто идиотское, невероятно идиотское, в чем он сам не разобрался и что не должно было случиться: у него вдруг защипало в глазах, лицо вспухло.
Хорошенький, должно быть, у него вид!
Но ведь эти поганые ребята…
– Куда вы идете, отец?
Она назвала его отцом! Не папой же его называть! Только этого недоставало! Он был просто не в состоянии сразу ответить на ее вопрос. Швырнув скомканную салфетку на стул, он направился к двери.
И только на пороге ему удалось выдавить из себя:
– К тете Марте! Уф!
Но самое невероятное было то, что он действительно надел пальто и пошел к Марте.
V
У него было такое впечатление, будто он погружается в самую гущу жизни. Он делал давно забытые жесты и движения, возможно, делал их всегда, но как-то не отдавая себе в этом отчета, – например, зябко поднял воротник пальто, поглубже засунул руки в карманы, наслаждаясь холодом и дождем, тайной, которую хранили эти улицы, все пятнистые, все блестящие от света.
Еще спешили куда-то прохожие, и он даже подумал: куда идут все эти люди? Как давно ему не доводилось вечерами выходить из дома? На улице Алье прибавились новые огни, и кинотеатр помещался не там, где прежний, извещавший о начале сеанса непрерывным дребезжанием звонка.
Лурса шагал быстро. Пока еще он поглядывал на людей и предметы искоса, словно стыдясь своего любопытства. С первого раза он не сдастся. Он бормотал что-то себе под нос. Когда он позвонил у двери дома Доссенов – сплошное стекло и чугун, – к нему уже вернулась обычная озлобленность, и она сверкнула в презрительном взгляде, которым Лурса смерил одетого наподобие бармена, в белую курточку, дворецкого, бросившегося снимать с посетителя пальто.
– Где сестра?
– Мадам в малом будуаре. Не угодно ли месье следовать за мной?
А что, если взять и не вытереть ног, просто так, из протеста против этого белоснежного холла, против всей этой новизны, этого модерна, против всей этой кричащей роскоши? Конечно, он этого не сделал, но все-таки подумал.
Затем зажег сигарету, а спичку кинул на пол.
– Входите, Гектор… Закройте дверь, Жозеф… Когда месье Эдмон вернется, попросите его пройти прямо ко мне.
Лурса уже весь ощетинился, как кабан. Он не любил сестру, хотя она ничего худого ему не сделала. Он сердился на нее за ее страдающий вид, за ее вялую и тусклую элегантность, а может быть, еще и за то, что она вышла замуж за Доссена, живет в этом особняке и держит великолепно вышколенную прислугу.
Но тут не было зависти. Доссены не богаче его самого.
– Садитесь, Гектор… Как мило с вашей стороны, что вы пришли… Вы не заглянули по дороге в суд? Что вам, в сущности, известно? Что вам сказала Николь? Надеюсь, вы заставили ее все сказать…
– Ничего я не знаю, кроме того, что они в моем доме убили человека!
В эту минуту он спрашивал самого себя, почему он так не любит Доссенов, и не находил достаточно убедительного ответа. Конечно, он презирал их за тщеславие, за особняк, который они себе построили и который стал смыслом их жизни. Сам Доссен со своими усиками, пропахшими ликером или духами сомнительных дам, был в его глазах олицетворением счастливого болвана.
– Неужели вы, Гектор, хотите сказать, что это дети…
– Очень похоже…
Она поднялась с кушетки, забыв о своих болях – после рождения Эдмона у нее вечно ныл живот.
– Вы с ума сошли! А если вы шутите, так это просто гнусно. Вы же знаете, я вся дрожу. И звонила я вам потому, что не в силах одна справиться со своей тревогой. Вы пришли ко мне! Это целое событие! Но вы, оказывается, пришли лишь затем, чтобы цинично заявить, что наши дети…
– Вы, по-моему, хотели знать правду?
В сущности, если бы в свое время ничего не произошло, теперь его жене – ибо тогда он имел бы жену – было бы почти столько же лет, сколько Марте. Интересно, поддались бы и они тоже поветрию, охватившему в последние годы все богатые семьи Мулэна, построили бы себе новый дом или нет?
Трудно сказать. Кроме того, глядя на сестру, он думал разом о множестве вещей. Особенно остро он чувствовал, что не может представить себя женатым, возможно, даже отцом других детей, не знает, чем бы он занимался все эти годы.
– Послушайте, Гектор! Я знаю, что вы не всегда бываете в нормальном состоянии. Возможно, вы сегодня уже выпили. Но поймите, сейчас не время сидеть взаперти в своей грязной норе! В том, что произошло, есть доля и вашей вины. Если бы вы воспитали свою дочь как полагается…
– Послушайте, Марта, вы меня позвали для того, чтобы ругать?
– Да, если только таким путем вы сможете осознать свой долг!.. Эти дети не несут ответственности… В каком другом доме они могли собираться ночами и вытворять глупости?.. Знаете, о чем я думаю? Действительно ли вы не были в курсе всего, что у вас творилось?.. А теперь вы не хотите пальцем пошевелить… Вы же адвокат… В суде вас жалеют, но уважают, несмотря ни на что…
Она так и сказала – «несмотря ни на что!». Сказала, что его жалеют.
– Не знаю, похожа ли Николь на свою мать, но…
– Марта!
– Что?
– Поди сюда…
– Зачем?
Чтобы дать ей пощечину! Он и дал, и сам не меньше сестры удивился своему жесту. И проворчал:
– Поняла?
Впервые с тех пор, как они стали взрослыми, он обратился к ней на «ты».
– Я ведь не интересуюсь ни твоим супругом, ни…
И замолчал. Замолчал вовремя. Неужели же он, который презирает их всех – и этих, и тех, – он, у которого хватило силы восемнадцать лет просидеть в одиночку в своем углу, в своей норе, прибегнет к подобным аргументам? Возьмет да и крикнет сестре, что ее муж, вечно находящийся в разъездах, обманывает жену на каждом шагу, что весь город это знает, она сама это знает и что ее вечные недомогания и плохое здоровье их Эдмона дружно приписывают застарелой дурной болезни?!
Он неуклюже тыкался по комнате в поисках своей шляпы, забыв, что ее взял дворецкий. Марта плакала. Трудно было сейчас представить себе, что обоим уже за сорок, что оба они, что называется, люди рассудительные.
– Вы уходите?
– Да.
– И не дождетесь Эдмона?