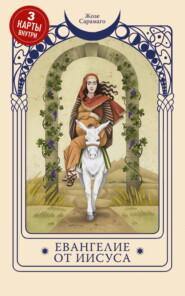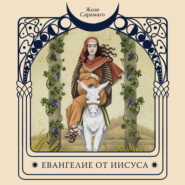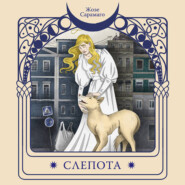По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Воспоминания о монастыре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В пору Великого поста одни грезят, другие бодрствуют. Миновала Пасха, она разбудила весь люд, но женщин спровадила в сумрак комнат и в мир бабьих хлопот. По домам стало больше мужей-рогоносцев, но они вполне способны разгневаться, случись грех в неурочную пору. И поскольку мы добрались до весны, а где весна, там и птицы, пора нам послушать канареек, которые, обезумев от любви, поют в своих клетках, разубранных цветами и лентами и висящих в церквах, а священники с амвонов тем временем проповедуют и толкуют о вещах, кои почитают самыми священными. Ныне четверг Вознесения, возносятся к сводам церкви птичьи песни, а молитвы к небосводу то ли вознесутся, то ли нет, если не пособят птицы молитвам, надежды мало, а может, лучше было бы, если бы все мы смолкли.
Этот молодчик, что удалым обличьем, привычкой поигрывать шпагой и несуразной одежонкой смахивает, хотя и бос, на солдата, не кто иной, как Балтазар Матеус, по прозванию Семь Солнц. Его из армии уволили за негодностью к службе, после того как ампутировали ему по самое запястье левую руку, в которой засела пуля, было это под Херес-де-лос-Кавальерос, когда в октябре прошлого года перешли мы испанскую границу, предприняв большое наступление с армией в одиннадцать тысяч человек, каковое закончилось потерей двухсот наших, а уцелевшие бежали врассыпную под напором конницы, посланной испанцами из Бадахоса. Стянулись мы всей ратью в Оливансу, разграбив перед тем Баркарроту, да только нам оттого мало вышло радости, потому как нет смысла отшагать десять миль в одну сторону, чтобы потом пробежать столько же в другую, оставив на поле такое множество убитых да руку Балтазара Семь Солнц. Ему еще повезло, а может, ладанка помогла, которую он на груди носит, не началась гангрена в солдатской ране и жилы не порвались, когда жгут ему закручивали, и хирург попался искусный, не стал пилить кость пилою, просто вылущил из сустава. Наложили на культю заживляющие травы, и такие крепкие были мышцы у Балтазара Семь Солнц, что через два месяца он выздоровел.
Поскольку от жалованья у него не много осталось, просил он милостыню в Эворе, чтобы подкопить денег для уплаты кузнецу и шорнику, раз уж захотелось ему обзавестись крюком, который заменил бы руку. Так и прошла зима, половину сбора он откладывал, половину другой половины приберегал на дорогу, а прочее уходило на еду и вино. Уж весна пришла, когда шорник, с которым он рассчитывался понемногу, в рассрочку, с последней выплатой вручил ему крюк, а еще клинок, тоже заказанный Балтазаром Семь Солнц, которому взбрело в голову обзавестись двумя левыми руками. Шорные работы выполнены были отменно, железные части прочно выкованы и закалены, и ремешки прилажены к ним на славу, и были они разной длины, одни закреплялись над локтем, а другие на плече, чтобы крепче держались. Странствие свое предпринял Семь Солнц в ту пору, когда стало известно, что войска, расквартированные в Бейре, не желают покидать квартиры и двигаться на выручку Алентежо, потому что в той провинции было до крайности голодно, еще хуже, чем в других, где тоже народ голодал. Солдаты ходили оборванные и разутые, грабили землепашцев, отказывались идти в бой и дезертировали, кто перебегал к неприятелю, кто к себе на родину, прячась в глухих местах вдали от дорог, добывая еду грабежом, насилуя женщин, если те попадались им в одиночку, одним словом, взимали долг с тех, кто ничего им не был должен и терпел столь же безысходные муки. Семь Солнц брел, искалеченный, в Лиссабон проезжей дорогою, ему тоже задолжали левую его руку, часть ее осталась в Испании, другая часть в Португалии, и всему причиной война, которая должна была решить, кто воссядет на трон Испании, то ли австриец Карл, то ли француз Филипп, но уж точно не португалец, какой от португальцев прок, что от двуруких, что от одноруких, что от двуногих, что от одноногих, единственное, на что годятся, оставлять на поле боя руки-ноги, а то и жизнь, так на то солдат и есть солдат, спать на земле либо спать в земле, чего ему еще. Вышел Семь Солнц из Эворы, миновал Монтемор, в попутчики не нашлось ему, как говорится, ни монашка, ни чертушки, а что руки дырявые, так у него всего одна и осталась.
Идет себе, не спешит. Никто не ждет его в Лиссабоне, не ждут и в Мафре, откуда ушел он много лет назад, чтобы записаться в пехоту его величества, отец с матерью, коли вспомнят о нем, подумают, что жив, раз вести о смерти не было, либо что умер, раз нет вести, что живой он. Да в конце концов со временем все узнается. Сейчас светит солнце, дождя давно не было, покрылись цветами кустарники, птицы поют. Балтазар Семь Солнц несет крюк и клинок в котомке, потому что выпадают минуты, а то и целые часы, когда мнится ему, что левая рука целехонька, и не хочется лишать себя удовольствия от ощущения, что все у него в порядке, все на месте, точь-в-точь как у Карла и Филиппа, у них тоже все в порядке будет и все на месте, когда воссядут себе на троны, которые, так или иначе, для обоих найдутся по завершении войны. Балтазару Семь Солнц, чтобы порадоваться, и того довольно, что, когда не глядит он на обрубок, мерещится ему, что зудит у него указательный палец, и он воображает, будто потирает большим пальцем местечко, где зудит. А если приснится ему этой ночью сон да если увидит он сам себя во сне, то с обеими руками и обе подложит под усталую голову.
И еще по одной немаловажной причине Балтазар припрятал до времени крюк и клинок. Он скоро приметил, что когда тот или другой красуются у него на культяпке, то не подают ему милостыни либо подают скупо, правда, монетка-другая все же перепадает, не зря болтается у него на поясе шпага, хотя нынче все при шпагах, даже негры, но не у всякого вид человека, который выучился владеть ею в совершенстве и, если понадобится, пустит в ход не мешкая. И если численность путников не столь велика, чтобы уравновесить подозрения, кои вызывает эта фигура, когда выходит им наперерез и становится посередь дороги, прося воспомоществования для солдата, который потерял руку и чудом сохранил жизнь, если испугаются встречные, как бы мольбы не превратились в нападение, в уцелевшую руку всегда падает милостыня, все-таки повезло Балтазару, что осталась у него хотя бы правая рука.
Миновав Пегоэнс, на подходе к большим соснякам, где начинаются пески, Балтазар, помогая себе зубами, прикручивает к обрубку клинок, который в случае необходимости заменит ему кинжал, в ту пору запрещенный как оружие, легко причиняющее смерть. У Балтазара Семь Солнц есть, так сказать, особое разрешение, и, вооруженный клинком и шпагою, пускается он в путь в лесном полумраке. По пути придется ему убить человека, одного из тех двоих, что на него напали, хоть он и кричал им, что денег при нем нет, но, поскольку возвращаемся мы с войны, где у нас на глазах погибло столько народу, эта история не заслуживает подробного изложения, разве только упомянем, что Семь Солнц заменил потом клинок крюком, чтобы сподручнее было оттащить убитого подальше от дороги, и таким манером прошли испытания оба приспособления. Уцелевший грабитель еще с полмили шел за ним следом, хоронясь за соснами, потом отстал, только послал издали ругательства и проклятия, но тоном человека, который не верит, что первые обидят, а вторые накличут беду.
Когда добрался Семь Солнц до Алдегалеги, уже смеркалось. Съел он несколько поджаренных сардин, запил кружкой вина, и, поскольку на ночлег денег у него не хватало, только-только на завтрашний переход, растянулся он в сарае под повозками и уснул там, завернувшись в шинель, но выставив наружу левую руку, вооруженную клинком. Ночь он провел покойно. Снилось ему дело под Херес-де-лос-Кавальерос, но на сей раз победят португальцы, потому как во главе войска выступает Балтазар Семь Солнц, держа в правой руке отрубленную левую, и против такого чуда нет у испанцев ни щита, ни обороны. Когда проснулся Балтазар, утренняя звезда на восточной части небосвода еще не засветилась, он почувствовал сильную боль в левой руке, ничего диковинного, когда из обрубка торчит прикрученный к нему клинок. Балтазар распустил ремни, и так могущественно самообольщение, особливо ночью, да еще в непроглядной темноте под повозками, что Балтазар, обеих рук своих не видя, вправе думать, что они все-таки здесь. Обе. Обхватил он правой рукой котомку, укутался в шинель и снова заснул. По крайней мере от войны избавился. Цел не остался, зато живой.
С первым лучом солнца он встал. Небо было очень чистое, прозрачное, видны были самые дальние и бледные звезды. Славный денек, приятно будет войти в Лиссабон, погода отменная, можно остаться в городе или продолжать путь, там видно будет. Сунул он руку в суму, вынул изношенные сапоги, которых за всю дорогу ни разу не обул, а обул бы, остались бы они на той дороге, и, помогая себе одной только правой рукой, пришлось расстараться, потому что от культи покуда мало было проку, еще не наловчился, кое-как влез в сапоги, чтобы поберечь ноги, хотя сапоги, может быть, наоборот, натрут их до волдырей, до крови, он ведь издавна привык ходить босиком, и когда крестьянствовал, и в солдатскую пору, у интендантства подметок в котел солдатам не хватало, не то что на обутку. Нет жизни хуже, чем солдатская!
Когда вышел он к переправе, солнце уже взошло. Начался отлив, лодочник кричал, что вот-вот отчалит, Место свободно, кому до Лиссабона, и Балтазар Семь Солнц побежал по сходням, в котомке бренчали крюк и клинок, и когда один шутник сказал, однорукий, мол, в суме подковы тащит, чтобы не сбить их в дороге, надо думать, Балтазар поглядел на него искоса и правой рукой вытащил клинок, а на нем либо виднелась ясно засохшая кровь, либо же сам дьявол велел, чтобы этакое примерещилось. Отвел шутник глаза, вверил себя святому Христофору, защитнику от недобрых встреч и несчастий в пути, и до самого Лиссабона рта не раскрывал. Женщина, которая по случайности оказалась рядом с Балтазаром, с мужем она ехала, развязала узелок с завтраком, и если соседу с другой стороны предложила лишь из учтивости, но без всякого желания, чтобы тот принял приглашение, то солдата уговаривала так настойчиво, что тот согласился. Балтазару неприятно было есть на глазах у людей правой своей рукой, которая без помощи второй стала как левая, хлеб выскальзывает, что на хлеб положено, то падает, но женщина ломоть отрезала широкий, остальную еду положила на ломоть подальше от краев, и таким образом, пользуясь то пальцами, то ножиком, который он вынул из кармана, Балтазар смог поесть спокойно и достаточно опрятно. Женщина по возрасту годилась ему в матери, муж ее в отцы, и речи не было о какой-то любовной интрижке на водах Тежо, на глазах у невольного или сговорчивого сводника. Просто немного сострадания к ближнему, к человеку, что вернулся с войны навсегда увечным.
Шкипер велел поднять малый треугольный парус, ветер пособлял отливу, и оба вместе лодке. Гребцы, освеженные ночным сном и утренней водкой, гребли уверенно и неслышно. Когда обогнули они мыс, лодку понесло силою течения и отлива, казалось, плывет она прямо в рай, поверхность воды блестела от солнца, и две четы тунцов, совершенно одинаковые, вынырнули перед самой лодкой, темные спины блеснули, выгнувшись, словно рыбам почудилось, что небо близко, и они к нему устремились. На том берегу, над водой, Лиссабон, еще дальний, выплескивался за городские стены. На одном из холмов виднелся замок, церковные колокольни высились над хаосом низеньких домишек, над смутным скопищем островерхих крыш. И шкипер стал рассказывать, Вчера потешная случилась история, кто хочет послушать, и все хотели, все-таки время скоротаем, плыть еще долго, Вот как оно было, начал шкипер, Пришли сюда английские корабли, они пришвартовались у причала Сантос, войска привезли, что отправятся в Каталонию на войну вместе с другими, которые их дожидались, но с этим флотом пришло одно судно с мятежниками, которых семьями отправляли на Барбадосские острова, а еще на этом судне были женщины легкого поведения, числом до пятидесяти, они туда же направлялись, в тех краях что честная, что гулящая, все едино, но капитан корабля решил, прохвост этакий, что в Лиссабоне им лучше будет, и таким способом избавился от лишнего груза, велел высадить женщин на сушу, а сложены они пальчики оближешь, я-то видел некоторых, недурны англичаночки. Шкипер расхохотался в предвкушении удовольствия, словно уже замыслил плаванье в английских водах и прикидывал, удастся ли абордаж, расхохотались громко и гребцы из Алгарве, Семь Солнц потянулся, как кот на солнцепеке, женщина, угощавшая его, сделала вид, что ничего не слышала, а муж ее сам не знал, то ли посмеяться над историей, то ли хранить серьезность, как раз потому, что он таких историй уже не мог принимать всерьез, да и вряд ли когда-нибудь принимал, ибо жил он далеко, в селении Панкас, где от рождения до смерти одно только знаешь, плуг да борозду, всю жизнь гни спину и в прямом смысле, и в переносном. И, повертев в голове одну мысль, потом другую, связав их воедино по какой-то неведомой причине, спросил он солдата, Сколько же годков вам, ваша милость, и отвечал Балтазар, Двадцать шесть.
Лиссабон был совсем близко, виднелся как на ладони, теперь дома и стены казались высокими. Лодка повернула к Рибейре, шкипер, убрав парус, причалил к пристани, гребцы, сидевшие по тому борту, которым лодка стала к причалу, единым движением подняли весла, гребцы с другого борта, поднатужившись, удержали лодку на месте, шкипер снова взялся за руль, чал пролетел над головами, оба берега реки словно соединились. Из-за отлива берег поднялся, и Балтазар помог женщине с узелком и ее мужу, без церемоний отпихнул присмиревшего шутника и выбрался на сушу.
Теснились у причала большие и малые рыбачьи суда, шла разгрузка рыбы, надсмотрщики орали, бранью, а то и тычками погоняя чернокожих грузчиков, которые следовали попарно, лохмотья их намокли от воды, капавшей из плетеных корзин с рыбой, лица и руки были облеплены чешуей. Казалось, на рынке собрались все жители Лиссабона. У Балтазара Семь Солнц слюнки потекли, словно весь голод, скопившийся за четыре года войны, прорвал плотины смирения и дисциплины. Почувствовал он, что живот подводит, машинально поискал глазами женщину с узелком, куда пошла она вместе со своим спокойным мужем, а он, может, разглядывает идущих мимо женщин, гадает, не англичанки ли они, не гулящие ли, всякому мужчине требуется держать в запасе разное, о чем можно помечтать.
В кармане у Балтазара мало денег осталось, всего несколько медяков, что позвякивали куда глуше, чем клинок и крюк в котомке, оказался он в городе, которого почти не знал, и теперь нужно было ему решить, куда держать путь, то ли в Мафру, где единственной его руке не сладить с мотыгой, для которой обе руки нужны, то ли во дворец, где, может, и подадут ему милостыню в воздаянье за пролитую кровь. Кто-то говорил ему об этом в Эворе, но еще говорили ему, что просить придется многократно, долго, к тому же надобно заручиться основательной поддержкой покровителей, и при всем том случалось, что теряли просители и дар речи, и жизнь, так и не понюхав, чем деньги пахнут. Все же как-никак были в столице духовные братства, где подавали милостыню, и монастырские привратницкие, где можно было получить похлебку и ломоть хлеба. А человеку, оставшемуся без левой руки, не приходится особенно жаловаться, если может он протягивать прохожим правую. Либо требовать, грозя железным острием.
Семь Солнц пошел по рыбному рынку. Торговки во все горло зазывали покупателей, задирали их, размахивая руками, унизанными золотыми браслетами, божась, били себя в грудь, увешанную цепочками, крестами, побрякушками, все из доброго бразильского золота, так же как и тяжелые кольца в ушах либо длинные подвески, богатые серьги, стоившие дороже, чем сама женщина. Среди грязной толпы торговки чудом сохраняли удивительную опрятность, к ним не приставал даже запах рыбы, хотя они хватали ее руками. У дверей таверны, что возле Алмазной палаты, купил Балтазар три жареные сардины и, положив, как водится, на ломоть хлеба, сжевал, дуя на горячих рыбок, по пути к Террейро-до-Пасо. Зашел в мясную лавку на площади потешить вожделеющее око видом больших кусков мяса, свиных и говяжьих туш, разделанных и четвертями развешанных на крюках. Посулил себе, что вволю наестся мяса, когда заведутся в кармане денежки, тогда он не знал еще, что в скором времени начнет здесь работать и место получит не только по милости покровителя, но и благодаря крюку, что у него в котомке, ведь им так удобно подцепить тушу, выпростать потроха, содрать слой жира. Лавка, хоть все здесь и заляпано кровью, чистая, стены белыми изразцами выложены, и если приказчик, что у весов стоит, не обвесит, то никакого другого обмана не будет, потому что мясо само правду скажет, свежее ли оно, мягкое ли.
А та вон громада и есть дворец, где живет король, дворец стоит на месте, короля на месте нет, охотится в Азейтоне вместе с инфантом доном Франсиско и другими своими братьями, и слуги при нем, и преподобные отцы-иезуиты Жуан Секо и Луис Гонзага, они-то наверняка не только затем поехали, чтобы поесть да помолиться, может, королю захотелось освежить в памяти латинские и математические премудрости, которым он у них обучался, будучи принцем. Его величество взял с собою также новое ружье работы Жуана ди Лары, главного королевского оружейника, истинное произведение искусства, отделанное серебряной и золотой чеканкой, если оно потеряется в дороге, мигом возвратится к хозяину, ибо вдоль всего ствола тянется надпись, выбитая красивыми римскими литерами, такими же, как на фронтоне собора Святого Петра в Риме, и надпись эта гласит, Я ПРИНАДЛЕЖУ ВЛАСТЕЛИНУ НАШЕМУ КОРОЛЮ, ХРАНИ ГОСПОДЬ ДОНА ЖУАНА V, все большими заглавными буквами, как у нас изображено, а еще говорится, что ружья изъясняются лишь с помощью дула и на языке свинца и пороха. Сие к обычным ружьям относится, таким, как то, которое было у Балтазара Семь Солнц, а сейчас он, безоружный, стоит посередь площади Террейро-до-Пасо и глазеет на белый свет, на крытые носилки, на монахов, на полицейских, на купцов, глядит, как взвешивают тюки и ящики, и вдруг чувствует, что тянет его на войну, да еще как, не будь он уверен, что никому там не нужен, сей же миг пустился бы в путь обратно в Алентежо, даже зная, что ждет его смерть.
Пошел Балтазар по широкой улице в сторону Россио, но прежде зашел в церковь Богоматери Оливейраской, где выстоял обедню, обмениваясь знаками с женщиной без спутников, которой он приглянулся, а впрочем, все здесь предавались этому развлечению, потому как если с одной стороны стоят мужчины, а с другой женщины, то пускаются в ход записочки, знаки рукою, взмахи платка, улыбочки, ухмылки и подмигиванье, больше ничего грешного, если нет греха в том, чтобы передавать послания, уславливаться о свидании, вступать в сговор, но, поскольку Балтазар прибыл издалека, в дороге намаялся и не было у него денег на лакомства да ленты, он на том и прекратил ухаживанье и, выйдя из церкви, направился по широкой улице в сторону Россио. Денек выдался щедрый на женщин, тому доказательством было появление целой дюжины их, они выходили из узкой улочки под охраной чернокожих полицейских, которые подталкивали их вперед своими должностными жезлами, и почти все женщины были белокурые, со светлыми глазами, голубыми, зелеными, серыми. Кто такие, спросил Семь Солнц, и, прежде чем человек, оказавшийся рядом с ним, ответил, он и сам догадался, что это и есть англичанки, которых высадил на берег пройдоха-капитан, их ведут обратно на корабль, делать нечего, придется им плыть на Барбадосские острова, не удалось остаться здесь, на доброй португальской земле, где такое раздолье иноземным шлюхам, ибо в их ремесло разноязычие не вносит такой путаницы, как при столпотворении Вавилонском, туда, где они вершат его, можно войти немым и выйти бессловесным, если только вначале сказали свое слово деньги. Но хозяин лодки говорил, что было их пятьдесят или около того, а здесь оказалось только двенадцать. А что же с остальными, и человек ответил, Кое-кого поймали, но не всех, потому что некоторые спрятались надежней не надо, сейчас, поди, уже знают, есть ли разница между англичанами и португальцами. Пошел Балтазар своим путем, а по дороге дал обет принести в дар святому Бенедикту восковое сердце, если тот сведет его хоть разок с белокурой зеленоглазой англичанкой, да чтобы высокая была и стройная. Если в день праздника этого святого идут люди в церковь просить его, чтобы дал хлеба вволю, если женщины, чающие найти добрых мужей, заказывают в честь него мессы по пятницам, что дурного в том, что попросит солдат у святого Бенедикта англичаночку, хоть раз в жизни отведать, чтобы не умереть в неведении.
До самого вечера бродил Балтазар Семь Солнц по улицам и площадям. После похлебки в привратницкой городского монастыря Святого Франциска порасспросил, какие братства пощедрее на милостыню, запомнил три, чтобы потом разузнать подробнее, церковь Богоматери Оливейраской, где он уже был, она принадлежала цеху кондитеров, церковь Святого Элоя, принадлежавшую цеху серебряных дел мастеров, и церковь Заблудшего Младенца, в названии которой усмотрел намек на собственную судьбу, хоть помнил очень мало о том времени, когда был младенцем, но кто заблудился, так это я, хоть бы нашли меня когда-нибудь.
Стемнело, и Семь Солнц пошел искать ночлег. К тому времени он успел подружиться с другим бывшим солдатом, тот был и годами старше, и опытней, а звался Жуан Элвас и жил теперь за счет уличных девиц, этот самый Жуан Элвас в теплую сухую погоду устраивался на ночь под заброшенным навесом, что пристроен к стене, окружающей монастырь Надежды со стороны оливковых насаждений. К нему в гости и напросился Балтазар, как-никак новый друг, будет с кем поговорить, но на всякий случай прикрутил к обрубку крюк, объяснив, что очень уж устала у него рука от веса котомки, надо бы облегчить, а клинок он нацеплять не хотел, чтобы не обижать Жуана Элваса и всю честную компанию, смертоносное оружие все-таки. Никто ему не сделал зла, хотя под навесом хоронилось шестеро, и он никому не сделал зла.
Пока не сморил их сон, беседовали о преступлениях. Не о тех, которые совершили они сами, про себя всяк сам знает, а Господь Бог про всех, а о тех, которые совершили люди важные, эти почти всегда остаются безнаказанными, даже когда известно, кто преступник, а уж коли неизвестно, судейские не очень-то доискиваются. Воришке, забияке прямая дорога в тюрьму Лимоэйро, да и убийце, нанимающемуся за гроши, тоже, в том случае, когда нет опасности, что язык у него развяжется и он выдаст нанимателя, а в Лимоэйро хоть будет им похлебка, это так же верно, как то, что живут они там по уши в дерьме. Вот недавно выпустили оттуда сто пятьдесят человек, повинных в преступлениях полегче, к тому времени в Лимоэйро больше пятисот человек сидело, много было таких, которых завербовали в Индию, а потом оказалось, они там не требуются, и столько народу скопилось, такой был голод, что объявилась болезнь, от которой мы все мерли, ну и выпустили кое-кого, меня в том числе. А другой сказал, В этом городе преступлениям счету нет, больше людей гибнет, чем на войне, так говорит тот, кто на войне побывал, а ты что скажешь, Семь Солнц, и Балтазар ответил, Я видал, как умирают на войне, не видал, как умирают в Лиссабоне, потому не могу сравнивать, пускай скажет свое слово Жуан Элвас, он и в военной жизни знает толк, и в городской. Жуан Элвас только пожал плечами, ничего не сказал.
Разговор вернулся к первоначальной теме, была рассказана история про позолотчика, что зарезал одну вдову, он хотел жениться на ней, а она не хотела и в наказание за свою строптивость была убита, а он ушел в монастырь Святой Троицы, еще рассказали про ту несчастную женщину, которая стала корить мужа за неверность, а он взял и проткнул ее шпагой насквозь, и еще про то, что случилось с одним священником, которого трижды основательно пырнули ножом за любовные делишки, все это было в дни Великого поста, такое время, когда кровь кипит, а злоба не спит, как выяснилось. Но август тоже месяц недобрый, как видно из того, что было в прошлом году, когда нашли женщину, разрубленную на четырнадцать или пятнадцать кусков, так и неизвестно в точности, на сколько, и видно было, что сначала избили ее жестоко, ягодицы исхлестали и живот, потом что-то нашли в Котовии, что-то там, где обстраивается граф Тароука, кое-что в Кардайсе, прямо на виду все лежало, не зарыли, не сбросили в море, а как будто нарочно выставили напоказ, чтобы нагнать на всех страху.
Заговорил тут Жуан Элвас и сказал, Да уж, помучили ее, несчастную, и, видно, при жизни, потому как терзать труп подобным образом было бы уж слишком жестоко, такое преступление может совершить только тот, у кого душа безвозвратно загублена, а сердца в помине нет, ты на войне никогда такого не видел, Семь Солнц, хоть и не знаю я, что видел ты на войне, а тот, кто начал рассказ, воспользовался этим отступлением Жуана Элваса и продолжал, Потом обнаружились недостающие части, в Жункейре нашли голову и одну руку, одну ногу нашли в Боависте, и, судя по голове, руке и ноге, была та женщина балованная и выросшая в холе, по лицу ей было лет девятнадцать-двадцать, и в том же самом мешке, где голова лежала, были внутренности, и груди, и еще младенец, месяцев трех-четырех, задушенный шелковым шнурком, много чего видывали в Лиссабоне, такого никогда.
Снова заговорил Жуан Элвас, добавил, что еще знал об этом случае, Король приказал оповестить горожан, что обещает награду в тысячу крузадо тому, кто найдет преступников, но уже почти год прошел, и никого не нашли, еще бы, все сразу поняли, что в этом деле замешаны люди, которых лучше не трогать, не сапожники, не портные, те режут только кожу да ткань, а эту женщину разрезали на куски так умело и искусно, что, когда созвали хирургов осмотреть, сказали они, что тот, кто это сделал, знает анатомию до тонкостей, они сами столько не знают, да кто в этом сознается. За монастырской стеной слышалось бормотанье монахинь, они даже не ведают, какой участи избежали, родить ребенка и так жестоко поплатиться за это, и тогда спросил Балтазар, Что же, так больше ничего и не узнали, кто хоть была эта женщина. Ни о ней, ни об убийцах ничего не известно, голову выставили на Воротах Милосердия, и никакого толку, и тут один из тех, кто до сих пор помалкивал, не столько чернобородый, сколько седобородый, сказал, Эти люди были не из столицы, живи они в столице, заметили бы люди, что исчезла женщина, и пошли бы разговоры, наверное, отец приказал убить дочку за то, что обесчестила дом, а потом велел разрубить на куски и отвезти во вьюках на муле либо на конных носилках, чтобы те куски разбросали по городу, а там, где живут они, он, может статься, приказал похоронить свинью, а сам распустил слух, что дочка померла от оспы, чтобы не показывать тела, есть люди, что на все способны, даже на такое, чего свет не видывал.
Смолкли собеседники, полные негодования, монахини притихли, как вымерли, и объявил Семь Солнц, На войне больше милосердия, Война еще не вышла из пеленок, усумнился Жуан Элвас. И поскольку после этого заключения сказать было нечего, все заснули.
Дона Мария-Ана не отправится сегодня на аутодафе. Она в трауре по случаю смерти брата своего Иосифа, императора Австрии, в какие-нибудь несколько дней напала на него оспа и унесла его, а было ему всего тридцать три года, но не по этой причине останется королева в надежно охраняемых своих покоях, в великое расстройство пришли бы дела в государствах, если бы королевы впадали в слабость по столь незначительным поводам, они приучены переносить и подобные испытания, и горшие. Хотя пошел пятый месяц, королеву все еще донимают приступы тошноты, но и это не отвлекло бы ее дух от долга набожности, а чувства, зрение, слух и обоняние от торжественной церемонии, в которой все так возвышает душу, так угодно Богу, и размеренное движение процессии, и неспешное чтение приговора, унылые фигуры осужденных, жалобные стоны, запах горелого мяса, когда на уголья падают капли жира, коего после тюремного заключения осталось совсем немного. Дона Мария-Ана не будет присутствовать на аутодафе, ибо ей трижды пускали кровь, хотя она и беременная, и по сей причине королева почувствовала сильнейшую слабость вдобавок ко всем мучениям, не дающим ей покою уже много месяцев. Отложили ей до времени очередное кровопускание, как ранее отложили сообщение о смерти брата, ибо хотели врачи укрепить здоровье королевы, ведь срок беременности еще невелик. Но, сказать по правде, воздух во дворце нездоровый, что недавно подтвердилось, когда был у короля сильнейший запор, он даже пожелал исповедаться, что и было мигом исполнено, исповедь всегда душе на пользу, но, как видно, опасность была воображаемая, ибо все кончилось благополучно, когда поставили монарху клистир, просто несварение желудка. Дворец приуныл, к обычному унынию прибавился траур, который, по велению короля, распространяется на всю его семью, и он предписал траур всем титулованным и должностным лицам и сам его соблюдает, неделю не покидал своих покоев, полгода будет носить полный траур, три месяца длинный траурный плащ и три месяца короткий, дабы выказать великую скорбь, которую причинила ему смерть императора, его шурина.
Сегодня, однако же, день всеобщей радости, хотя, может, слово это здесь не к месту, ибо наслаждение приходит откуда-то из глубины, возможно, из самой души, стоит только посмотреть на этот город, дома опустели, все горожане высыпали на улицы и площади, спускаются с холмов, сходятся на площади Россио, чтобы поглядеть, как будут наказывать евреев и новых христиан, еретиков и колдунов, не говоря уже о случаях, труднее поддающихся определению, как-то содомия, молинизм, похищение и совращение женщин и прочие мелочи, за которые положено расплачиваться костром или ссылкой. Сегодня выйдут на место лобное сто четыре человека, большинство приехало из Бразилии, этой утробы, плодящей алмазы и нечестивость, пятьдесят один мужчина да пятьдесят три женщины. Из них две будут переданы в мирские руки палача как неисправимые, согласно тексту приговора, иными словами, упорствующие в своей ереси, как убежденные вероотступницы, согласно приговору, иными словами, стоящие на своем вопреки всем свидетельствам, как бунтовщицы, согласно приговору, иными словами, не желающие отречься от своих заблуждений, каковые являются их правдою, но не к месту и не ко времени. И поскольку прошло уже почти два года с тех пор, как в последний раз сжигали в Лиссабоне людей, площадь Россио переполнена народом, нынче двойной праздник, и воскресенье, и аутодафе, так никогда и не выяснится, что больше по вкусу горожанам, то ли это зрелище, то ли бой быков, даже когда останется один только бой быков. В окнах, выходящих на площадь, виднеются женщины, разодетые и причесанные изящно, на германский лад, в подражание всемилостивейшей королеве, румяна на щеках и на груди, губки втянуты и поджаты, чтобы рот казался меньше и ?же, дамы гримасничают, поглядывают на улицу, беспокоясь, на месте ли мушка, в углу рта поцелуйница, поверх прыщика укрывательница, под глазом сумасбродка, а признанный или вздыхающий поклонник разгуливает тем временем внизу с платком в руке и помавает плащом. И поскольку день выдался жаркий, присутствующие не прочь освежиться, кто знаменитым лимонадом, кто ковшом обычной воды, кто ломтем арбуза, не пренебрегать же этими благами из-за того только, что кто-то идет на смерть. А если потребует желудок чего-то поосновательнее, хватает зерен люпина и орешков пинии, пирожков с сыром и фиников. Король с инфантами обоего пола, своими братцами и сестрицами, пообедает в Инквизиции по окончании богоугодного дела и, поскольку он уже избавился от недомогания, окажет честь столу главного инквизитора, а стол этот будет ломиться от супниц с куриным бульоном, от блюд с куропатками, телячьей грудинкой, огромными пирогами и крохотными пирожками с бараниной, сдобренной сахаром и корицей, с кастильским косидо, заправленным всем, чем положено, и вдобавок шафраном, от блюд с бланманже и, на десерт, с печеньями и фруктами. Но король столь воздержан, что вина не пьет, а поскольку добрый пример лучший урок, все им пользуются, примером, разумеется, а не вином.
Другой пример, полезный больше для души, коли тело уже вполне удоволено, будет подан сейчас на площади. Вот показалась процессия, впереди идут доминиканцы, несут хоругвь святого Доминика, за ними следуют длинной цепочкой инквизиторы, затем появляются приговоренные, сто четыре человека, как уже было сказано, у всех свечи в руках, с обеих сторон охранники, слышится только бормотанье молитвы, по головному убору сразу видно, кто приговорен к смерти, кто нет, хотя есть и еще одна верная примета, большое распятие повернуто тыльною стороною к женщинам, которые умрут на костре, а благой и страждущий лик обращен к тем, кому будет дарована жизнь, символический способ оповещения об уготованной каждому участи, если не приглядываться к одеяниям, каковые суть переложение приговора на зримый язык, желтые санбенито с красным крестом святого Андрея на тех, кто не заслужил смерти, санбенито с языками пламени, устремленными книзу, так называемыми опрокинутыми огнями, на тех, кто избежал казни, покаявшись, балахон пепельно-серого, похоронного цвета с изображением осужденного в окружении дьяволов и языков пламени означает в переводе на человеческий язык, что обе женщины в этом облачении вскоре будут гореть на костре. Проповедь произнес брат Жуан дос Мартирес, отец-провинциал, возглавляющий аррабидское монашество, и, разумеется, никто не заслуживает сей чести больше, чем он, если мы вспомним, что к аррабидскому монашеству принадлежал брат, во увенчание добродетелей коего Бог наградил королеву беременностью, да будет от его слова польза делу спасения душ, как будет польза правящему дому и францисканскому ордену от ожидаемого потомства и обещанного монастыря.
Выкрикивают добрые люди бранные слова, яростно понося осужденных, визжат женщины, высовываясь из окон, тараторят монахи, процессия огромный змей, не помещающийся на площади Россио, а потому извивающийся бесчисленными кольцами, словно решил он стать вездесущим, преподать наглядный урок всему городу, вон тот, Симеон ди Оливейра-и-Соуза, человек без ремесла и без имения, он выдавал себя за агента Святейшей Службы и, будучи мирянином, служил мессу, исповедовал и проповедовал, а в то же время во всеуслышание объявлял себя еретиком и иудеем, вот уж путаница, какая нечасто встречается, а он еще усугублял оную, именуя себя то отцом Теодоро Перейра-ди-Соуза, то братом Мануэлом да Консейсан, то братом Мануэлом да Граса, то Белшиором Карнейро, то Мануэлом Ленкастре, поди знай, какие еще имена он себе давал, и все истинные, ибо человек должен был бы обладать правом выбирать себе имя и менять его сто раз на дню, имя звук пустой, а вон тот, Домингос Афонсо Лагарейро, уроженец и житель Портела, он, дабы прослыть святым, делал вид, будто ему видения являются, и занимался исцелениями, пуская в ход благословения, заговоры, крестные знамения и прочие тому подобные суеверия, подумать только, не он первый, а вон тот, падре Антонио Тепшейра-ди-Соуза с острова Сан-Жорже, повинный в совращении женщин, а в переводе с церковного языка это значит, что он щупал их и блудил с ними, начиналось-то все с речей в исповедальне, а кончалось тайными делами в ризнице, теперь ему доживать земную свою жизнь в Анголе, куда сослан он навсегда, а это я, Себастьяна-Мария ди Жезус, на четверть из новых христиан, мне являются видения и откровения, но сказали мне на суде, что это одно притворство, я слышу голоса с Неба, но объяснили мне, что это козни демона, я знаю, что могу быть святой, как святые угодники, или еще святее, потому как не вижу разницы между ними и собою, но меня за то порицали, говоря, что сие есть преступное тщеславие и чудовищная гордыня, вызов Господу Богу, вот иду я, богохульница, еретичка предерзостная, на мне намордник, чтобы не слышали люди моих предерзостных речей, и ересей, и богохульств, меня приговорили к публичному наказанью плетьми и восьмилетней ссылке в Анголу, я слышала свой приговор и приговоры всем, кто идет со мною в этой процессии, но не слышала я, чтобы поминалась моя дочь, ее зовут Блимунда, где-то она сейчас, где ты, Блимунда, если не схватили тебя после того, как я была схвачена, стало быть, придешь ты сюда узнать, что с твоей матерью, и я увижу тебя, если ты бродишь в этой толпе, сейчас глаза мне нужны только затем, чтобы видеть тебя, рот мой под намордником, но глаза открыты, да что глаза, глаза не увидели, зато сердце чует, не раз чуяло, оно подпрыгнет в груди, если Блимунда здесь, среди этих людей, что плюют мне в лицо и швыряют в меня арбузными корками и грязью, ох, как же они заблуждаются, я ведь знаю, все могли бы быть святыми, лишь бы захотели, и не могу кричать об этом, но вот в груди своей ощутила я знак, застонало мое сердце, я увижу Блимунду, увижу ее, ох, вон она, Блимунда, Блимунда, Блимунда, дочь моя, она уже увидела меня, и не может говорить, и должна делать вид, что не знает меня или что презирает меня, ее мать колдунья, да к тому же из выкрестов, хоть и всего на четверть, она уже увидела меня, а около нее стоит отец Бартоломеу Лоуренсо, Не говори ни слова, Блимунда, только смотри, смотри своими всевидящими глазами, а кто же этот мужчина, такой рослый, он стоит подле Блимунды, не знает она, ох, не знает, кто он, откуда, что будет с ними обоими, о, мой тайный дар, судя по одежде, это солдат, судя по лицу, много чего повидал, судя по культе, увечный. Прощай, Блимунда, больше я тебя не увижу, и Блимунда сказала священнику, Вон идет моя мать, а затем повернулась к рослому мужчине, стоящему близ нее, спросила, Как ваше имя, и мужчина отвечал не задумываясь, признавая тем самым, что эта женщина имеет право задавать ему вопросы, Балтазар Матеус, а еще зовут меня Семь Солнц.
Уже прошла Себастьяна-Мария ди Жезус, прошли все остальные, процессия повернула назад, биты плетьми те, кого приговорили к этой каре, сожжены обе женщины, одну предварительно удушили с помощью гарроты, поскольку она заявила о своем желании умереть в христианской вере, другую сожгли заживо, за то что упорствовала даже в смертный час, перед кострами начались пляски, пляшут мужчины и женщины, король удалился, поглядел, отобедал и отбыл, с ним инфанты, уехал во дворец в карете шестернею и под охраной своих гвардейцев, вечер подходит быстро, но жара еще стоит удушающая, душит, как гаррота, на площадь Россио падает широкая тень от кармелитского монастыря, останки сожженных женщин отвязали от столбов, пускай догорают на угольях, к ночи пепел развеют, частицы праха не найдут друг друга и в день Страшного суда, люди снова разойдутся по домам, к подошвам башмаков пристала сажа, липкий прах, частицы горелого мяса. Воскресенье день Господень, прописная истина, все дни Господни, они уносят наши жизни, если во имя все того же Господа не унесут нас еще быстрее языки пламени, двойное насилие, сожгли меня, когда я по воле своей и разуму отказалась отдать этому самому Богу плоть и кости, и дух, что поддерживает мое тело, дух, порожденный мною, и то, что связывает меня с самой собой, то, чем мир повеял в сокрытый лик, нисколько не отличающийся от явленного очам и оттого никому не ведомый. Как бы то ни было, надо умереть.
Холодными, должно быть, показались близстоящим слова, произнесенные Блимундой, Вон идет моя мать, ни вздоха, ни слезинки, хотя бы лицом выразила сострадание, все-таки среди народа нашлись и такие, при всей ненависти, оскорблениях, издевательствах, а она ведь как-никак дочь, и любимая, это по взгляду матери видно было, а она только и сказала, Вон идет, повернулась к мужчине, которого впервые в жизни видела, и спросила, Как ваше имя, словно имя важнее, чем муки от наказанья плетьми, и это после мук тюремного заключения и пыток, и ведь знала дочь наверняка, что Себастьяна-Мария ди Жезус отправится в Анголу, даже имя ей не помогло, но, может быть, утешит ее душу и тело отец Антонио Тейшейра-ди-Соуза, он по этой части мастак, тем лучше, все-таки какая-то радость в этой жизни, даже если в той наверняка ад. Но теперь, дома, слезы льются ручьями из глаз Блимунды, если она и увидит мать еще раз, то лишь тогда, когда ту погонят на корабль, издали, легче английскому капитану высадить на берег женщин легкого поведения, чем дочери обнять мать, приговоренную к ссылке, прижаться щекой к щеке, гладкой кожей к увядшей, так близко, так далеко, где ты, кто мы, и отец Бартоломеу Лоуренсо говорит, Мы никто пред Господним промыслом, лишь ему ведомо, кто мы, и смирись, Блимунда, оставим Господни поля Господу, не будем преступать межи, будем поклоняться Ему отсель и возделывать наше поле, поле людей, а когда дело будет сделано, соизволит Господь навестить нас, тогда-то мир и будет создан воистину. Балтазар Матеус по прозвищу Семь Солнц молчит, только глядит пристально на Блимунду, и каждый раз, когда ловит ее взгляд, чувствует, ноет у него под ложечкой, никогда не видывал он таких глаз, то светло-серых, то зеленых, то голубых, они меняются в зависимости от света, что снаружи, и дум, что внутри, вдруг становятся темными как ночь или блестящими, как раскаленный добела уголек. Он пришел в этот дом не потому, что его пригласили, а потому, что Блимунда спросила у него имя и он ответил, причины основательней не понадобилось. Когда аутодафе закончилось, Блимунда пошла домой, и священник с нею, и когда подошла она к дому, дверь оставила открытой, чтобы мог войти Балтазар. Он вошел и сел, священник закрыл дверь и зажег свечу при угасающем свете полоски заката, которая зажигается, когда в нижней части города уже темнеет, слышатся голоса солдат на стенах замка, находись он не здесь, Балтазару вспомнилась бы война, но сейчас есть у него глаза лишь для того, чтобы видеть глаза Блимунды или тело ее, она высокая и стройная, как англичанка, что пригрезилась ему наяву в тот день, когда прибыл он в столицу.
Блимунда встала с табурета, разожгла огонь в очаге, поставила на треножник горшок с похлебкой и, когда похлебка забурлила, наполнила две широкие миски и подала обоим мужчинам, все это она сделала, не произнеся ни слова, она рта не раскрыла с того мгновенья, несколько часов назад, когда спросила, Как ваше имя, и хотя священник кончил еду первым, она подождала, пока кончит Балтазар, и стала есть его ложкой, словно отвечала безмолвно на другой вопрос, Согласна ли ты поднести к губам своим ложку, которой касались губы этого мужчины, теперь то, что принадлежало ему, перейдет к тебе, а то, что было твоим, перейдет к нему, и утратится смысл слов «твое» и «мое», и раз уж сказала Блимунда «да», опередив вопрос, Стало быть, объявляю вас мужем и женой. Отец Бартоломеу Лоуренсо дождался, покуда Блимунда доест из горшка остатки похлебки, благословил ее и все освятил своим благословением, и девушку, и пищу, и ложку, и лоно, и огонь очага, и свечу, и циновку на полу, и культю Балтазара. Затем вышел.
Час они просидели в молчании. Только Балтазар встал один раз, подложил полено в догорающий огонь очага, да Блимунда сняла со свечи нагар, съедавший свет, и тогда стало так светло, что Балтазар смог заговорить, Почему ты спросила, как мое имя, и Блимунда ответила, Потому что мать моя захотела узнать твое имя и хотела, чтобы я его знала, Откуда ты знаешь, ты же не могла говорить с нею, Знаю, и все тут, а откуда, сама не ведаю, не задавай таких вопросов, мне не ответить, делай так, как делал до сих пор, ты же пришел и не спрашивал почему, А теперь что мне делать, Если тебе негде жить, оставайся здесь, Мне надо вернуться в Мафру, там у меня семья, Жена, Нет, отец с матерью и сестра, Оставайся покуда, уйти ты всегда успеешь, Почему ты хочешь, чтоб я остался, Потому что так надо, Меня такими словами не уговорить, Не хочешь оставаться, уходи, я тебя не держу, Мне не уйти отсюда, нет сил, ты меня приворожила, Ничего такого я не делала, слова не сказала, пальцем до тебя не дотронулась, Ты заглянула мне внутрь, Клянусь, что никогда не буду заглядывать тебе внутрь, Клянешься, что не сделаешь этого, а сама уже сделала, Ты сам не знаешь, что говоришь, не заглядывала я тебе внутрь, А если я останусь, где буду спать, Со мною.
Они легли. Блимунда была девственна. Сколько тебе лет, спросил Балтазар, и Блимунда ответила, Девятнадцать, и тут же сразу стала гораздо старше. Немного крови вытекло на циновку. Омочив в ней кончики среднего и указательного пальцев, Блимунда перекрестилась и начертала крест на груди Балтазара, там, где сердце. И Балтазар, и Блимунда были обнажены. На улице совсем близко послышалась перебранка, звон шпаг, топот бегущих. Затем все стихло. Больше крови не пролилось.
Когда утром Балтазар проснулся, он увидел, что Блимунда, лежа рядом с ним, ест хлеб с закрытыми глазами. Раскрыла их, только когда доела, в этот час глаза у нее были серые, и она сказала, Я никогда не буду заглядывать тебе внутрь.
Нетрудное дело поднести кусок хлеба к губам, славно делать это дело, когда голод понуждает, оно приносит выгоду землепашцу, еще большую, может статься, тем, кто между серпом жнеца и зубами едока сумеет просунуть загребущие руки и тугой кошелек, так оно обычно и происходит. В Португалии не хватает пшеницы, не напасешься на аппетит португальцев, все время хлеб им подавай, можно подумать, ничего другого есть не умеют, а потому поселившиеся у нас в стране иноземцы, которых разжалобили наши нужды, приносящие им куда больше плодов, чем побеги тыквы, вызывают из своих и чужих земель караваны судов, груженных зерном, вот и теперь вверх по Тежо поднялись такие суда, обогнув Вифлеемскую башню и предъявив ее главному смотрителю соответствующие грамоты, тридцать тысяч мойо ирландской пшеницы, вот какое изобилие, голод сменился сытостью до поры до времени, ведь когда портовые зернохранилища и амбары частных лиц наполнятся, начинаются поиски складов, сдающихся внаем за любые деньги, на городских воротах вывешиваются объявления, чтобы оповестить тех, у кого имеются подходящие помещения, и тут люди, заключавшие договор о поставке пшеницы, рвут на себе волосы, потому как приходится им снизить цены, тем более что, по слухам, скоро прибудут суда из Голландии, груженные тем же товаром, но тут станет известно, что суда эти подверглись нападению французской эскадры, и цены, чуть было не снизившиеся, не снизятся, а в случае необходимости можно поджечь амбар-другой, а потом оповестить, что зерна не хватает, поскольку часть сгорела, а мы-то думали, хватает, и с избытком. Таковы торговые тайности, чужеземцы обучают, а здешние уроженцы перенимают, хотя здешние-то обыкновенно до того тупоголовы, о купечестве речь, что никогда самолично не вступают в переговоры о приобретении чужеземных товаров, довольствуются тем, что закупают их у чужеземцев, живущих на нашей земле, а эти рады поживиться на нашей простоте, и от поживы сундуки их ломятся, закупают-то они по ценам, нам неведомым, а продают по ценам, слишком хорошо нам ведомым, ибо платим мы нашим соленым потом, а то и кровавым, а там, глядишь, и жизнью.
Однако от смеха недалеко до слез, от потехи рукой подать до тревоги, от безмятежности один шаг до испуга, так живут и люди, и целые королевства, вот и рассказывает Жуан Элвас Балтазару Семь Солнц о славном ратном деле, о том, как изготовился к бою флот лиссабонский от Белена до Шабрегаса, двое суток стоял наготове, а на суше к бою изготовились пехотные полки и конница, потому как разнесся слух, что французский флот на подходе, завоевать нас желают, а при этаком предположении среди дворян ли, среди простолюдинов, но нашелся бы кто-нибудь на роль нового Дуарте Пашеко Феррейры, а Лиссабон превратился бы в Диу, да только на поверку флот захватчиков оказался рыбацким и груженным треской, которой как раз не хватало, а потому и стрескали ее так, что за ушами трещало. Министры приняли известие с кривой улыбочкой, солдаты составили ружья в пирамиды с косой ухмылочкой, зато простонародье хохотало, глотки драло, все-таки расплата за немалое число обид. Да, в конце концов, уж лучше стыд принять, ждать француза, а дождаться трески, чем рассчитывать на треску, а тут француз нагрянет.
Семь Солнц того же мнения, но он представляет себя на месте солдат, изготовившихся к бою, знает, как в те часы колотится сердце, что со мною станется, буду ли я еще живой через какой-то невеликий срок, приводит человек свою душу в порядок перед лицом возможной смерти, а тут ему сообщают, мол, треску разгружают на пристани Рибейра-Нова, проведали бы французы, еще пуще бы над нами смеялись. Чуть было не затосковал Балтазар снова по ратному делу, да вспоминает про Блимунду, и хочется ему выяснить, какого же цвета у нее глаза, и тут уж приходится потрудиться его памяти, то один цвет представится, то другой, его собственным глазам и то не разобрать, какого цвета глаза у Блимунды, даже когда глядит он на нее. Таким образом, тоска, чуть было им не завладевшая, сразу забылась, и отвечает он Жуану Элвасу, Надо бы найти какой-то верный способ разузнавать, кто на подходе, с каким грузом и намерениями, чайки, что на мачты садятся, все это знают, а нам и важно бы узнать, да никак, и старый солдат ответил, У чаек есть крылья, и есть они у ангелов, но чайки не владеют речью, а ангелов я сроду не видывал.
Проходил по Террейро-до-Пасо отец Бартоломеу Лоуренсо, возвращался из дворца, куда ходил по просьбе Балтазара Семь Солнц, который хотел выяснить, будет ли ему пенсия, стоит ли таких денег всего лишь левая рука, и когда Жуан Элвас, не все знавший о жизни Балтазара, увидел священника, он сказал, продолжая беседу, Вон идет отец Бартоломеу Лоуренсо, его прозвали Летатель, но у Летателя крылышки коротки оказались, вот и не можем мы летать и разузнавать, что за флот к нам близится, с какими умыслами и с какими товарами. Семь Солнц не смог ответить, потому что священник, остановившись поодаль, сделал ему знак подойти, и Жуан Элвас был немало изумлен, увидев, что оказался друг его под сенью Двора и Церкви, и стал он размышлять, какая от этого может выйти польза беглому солдату. А чтобы не терять времени даром, протянул он руку за милостыней и сунулся сперва к какому-то дворянину, который был в духе и расщедрился, а потом, по рассеянности, к монаху нищенствующего ордена, который шел со святым образом и подставлял его всем для благочестивого лобызания, вот и пришлось Жуану Элвасу расстаться с тем, что получил, Разрази меня гром, может, и грешно браниться, зато легче становится.
Молвил отец Бартоломеу Лоуренсо Балтазару Семь Солнц, Беседовал я с судейскими, сказали мне, что будет рассмотрено твое дело, поглядят, стоит ли тебе подавать прошение, затем дадут мне ответ, А когда это будет, отче, осведомился Балтазар, простодушное любопытство новичка, только что прибывшего в столицу и не ведающего здешних обычаев, Не сумею тебе ответить, но по прошествии времени, может, и удастся мне замолвить за тебя словечко его величеству, король отличает меня своим благоволением и покровительством, Вы можете говорить с самим королем, изумился Балтазар и добавил, Вы можете говорить с самим королем, а знались с матерью Блимунды, осужденной Инквизицией, что же это за священник такой, последние слова Балтазар вслух не произнес, должно быть, только про себя подумал. Бартоломеу Лоуренсо ничего не ответил солдату, только посмотрел ему в глаза, они стояли друг против друга, священник пониже ростом будет и кажется моложе, но они одногодки, обоим по двадцать шесть, про Балтазара-то мы уже знаем, но жизнь у них разная, у Балтазара работа и война, война для него уже кончилась, за работу снова придется браться, у Бартоломеу Лоуренсо, родившегося в Бразилии и приехавшего в Португалию юнцом, годы учения, и так много он учился, такая была у него память, что уже в пятнадцать лет он не только обещал многое, но многое из обещанного уже содеял, мог читать наизусть всего Вергилия, Горация, Овидия, Квинта Курция, Светония, Мецената и Сенеку с какого угодно места, хоть сначала, хоть с конца, откуда покажут, и мог перечислить названия всех басен, какие только написаны, и сказать, с какой целью написали их римские и греческие язычники, и мог назвать авторов всех книг в стихах, древних и нынешних, вплоть до самого тысяча двухсотого года, и если кто прочтет ему стихотворение, он тут же весьма к месту скажет в ответ десятистишие собственного сочинения, которое сразу же сложит, и можно было ожидать, что ему по плечу и по силам вся философия и самые сложные ее закавыки, и что объяснит он Аристотелеву систему, хотя она такая обширная и запутанная, и разрешит все загадки Священного Писания, и Ветхого Завета, и Нового, ведь он мог сказать наизусть, хоть подряд, хоть кусками, все четыре Евангелья, и Послания святого Павла и святого Иеронима, и мог сказать, сколько годов отделяло одного пророка от другого и сколько лет жизни каждому из них выпало, и то же самое знал про всех царей из Писания, и знал вдоль и поперек и Псалтирь, и Песнь песней, и Книгу Исхода, и все Книги Царств, и даже неканонические знал книги, обе Книги Ездры, они кажутся не очень-то каноническими, в сущности, между нами будь сказано, даже если не проявлять чрезмерной подозрительности, не очень-то каноническими кажутся и сей возвышенный склад ума, сия памятливость, сии дарования, рожденные и возросшие в Бразилии, в стране, от которой мы требовали и требуем лишь золота и алмазов, табака и сахара и лесных богатств, вот максимум того, что можно там обрести, это же другой мир, ныне и присно и во веки веков, и, само собой, нужно нести Слово Христово индейцам тапуйа, одного этого довольно, чтобы обрели мы жизнь вечную.
Сказал мне только что мой друг Жуан Элвас, что прозвали вас Летателем, отче, почему дали вам такое прозвище, спросил Балтазар. Бартоломеу Лоуренсо быстро зашагал прочь, солдат пошел следом за ним, на расстоянии двух шагов друг от друга миновали они арсенал, что на набережной Рибейра-дас-Наус, Королевский дворец, и там, где площадь выходит к реке, священник сел на камень, знаком предложил Балтазару примоститься рядом и наконец ответил, словно только что услышал вопрос, Потому что я летал, и сказал Балтазар в сомнении, Уж простите за недоверие, но летают только птицы да ангелы, а люди разве что во сне, но сны все равно что дым, Ты раньше не жил в Лиссабоне, я никогда тебя здесь не видел, Я четыре года пробыл на войне, а сам из Мафры родом, Так вот, я летал два года назад, сперва один шар построил, он сгорел, потом построил другой, тот взлетел до потолка, дело было во дворце, а третий шар вылетел из окна Палаты Индий, и никто больше его не видел, Но вы самолично летали или только шары ваши, Летали шары, но это все равно как если бы летал я сам, Одно дело, когда летает шар, другое, когда человек, Человек сперва спотыкается, потом научается ходить, потом бегать, когда-нибудь научится летать, отвечал Бартоломеу Лоуренсо, но тут пришлось ему преклонить колена, ибо мимо следовало Тело Господне для какого-то недужного сановника, священника несли на крытых носилках шесть человек, впереди выступали трубачи, сзади шли монахи из духовного братства, все в алых плащах и с восковыми свечами, и еще тут были разные разности, потребные для того, чтобы дать святое причастие чьей-то душе, нетерпеливо рвущейся в полет, ожидающей лишь, чтобы разрешили ее от телесных уз, предали воле ветра, что дует с моря, или из вселенских далей, или с того света. Семь Солнц также преклонил колена, упершись в землю своим железным крюком, правою же рукой перекрестился.
Отец Бартоломеу Лоуренсо не вернулся к своему камню, пошел неспешно к берегу реки, Балтазар шел сзади, у берега стояла лодка, полная соломы, грузчики переносили ее на спине в больших мешках, пробегали по сходням, умудряясь держать равновесие, с другой стороны подходили две чернокожие рабыни, собирались опорожнить урыльники своих хозяев, все, что скопилось за день, а может, за неделю, пахло соломой, естественный запах, и испражнениями, тоже запах естественный, и сказал священник, Я был посмешищем столицы и поэтов, один из них, Томас Пинто Брандан, назвал мое изобретение игрушкой ветра, коей сужден недолгий срок, когда бы не покровительство короля, не знаю, что сталось бы со мной, но король поверил в мою машину и дозволил мне продолжать опыты в усадьбе герцога ди Авейро в Сан-Себастьян-да-Педрейра, тут наконец мне дали дышать посвободнее клеветники, они совсем распоясались, желали, чтобы я переломал себе кости, когда полечу из замка, но я никогда ничего подобного не обещал, это всем известно, они говорили, что мое изобретение из области, подвластной Святейшей Службе, а не законам геометрии, Отец Бартоломеу, я в этих вещах ничего не смыслю, был крестьянином, потом побывал в солдатах и не верю, что кто-то может летать без крыльев, кто будет с этим спорить, тот малоумный, Но вот на культе у тебя крюк, ты же не сам его изобрел, нужно было, чтобы у кого-то возникла необходимость, а кому-то пришла в голову мысль, ибо без одного не рождается другое, вот и соединились железный крюк и кожаные ремни, а вот видишь, корабли на реке, было время, когда люди парусов не знали, было время, когда измыслили они весла, и время, когда изобрели руль, и вот человек, земнородная тварь, из необходимости стал мореходом, из необходимости и летать научится, Но тот, кто ставит паруса, на воде пребывает и на воде остается, а летать значит оторваться от земли и оказаться в воздухе, где нет ничего, во что могли бы мы упереться ногами, А мы поступим как птицы, они и летать могут, и опускаются на землю, Стало быть, вы и с матерью Блимунды свели знакомство, потому как хотите летать и слышали, что она знает толк в ведовстве, Я прослышал, что бывают у нее виденья и видятся ей люди, летающие на матерчатых крыльях, по правде сказать, в этих краях хватает людей, утверждающих, что им являются виденья, но уж очень правдоподобно было то, что мне рассказывали, вот я и наведался к ней однажды без лишнего шума, а потом и сдружился с нею, И удалось вам узнать то, что вы хотели, Нет, не удалось, я понял, ее знание, если она и вправду владела знанием, не то, которое мне потребно, и я должен бороться с собственным неведением без посторонней помощи, лишь бы мне не ошибиться, Сдается мне, недалеки от истины те, кто говорит, что это самое искусство летать больше из ведения Святейшей Службы, чем из ведения геометрии, будь я на вашем месте, удвоил бы осторожность, глядите, ведь за такие предерзостные помыслы расплачиваются тюрьмою, ссылкой, а то и костром, но об этом священник больше знает, чем солдат, Я осторожен, и покровителей у меня довольно, Что ж, может, и наступит ваш день.
Они вернулись обратно, поднялись на площадь. Семь Солнц хотел было что-то сказать, но замялся, священник заметил его нерешительность, Ты хочешь сказать мне что-то, Хотел бы я знать, отец Бартоломеу, почему Блимунда, прежде чем открыть глаза утром, всегда ест хлеб, Ты спал с нею, Я там живу, Заметь, вы состоите в незаконном сожительстве, лучше бы вам пожениться, Она не хочет, да и я не знаю, хочу ли, а вдруг решу вернуться в родные края, а она предпочтет остаться в Лиссабоне, чего ради жениться, так как же с тем, про что я спросил, Про то, почему Блимунда, прежде чем открыть глаза утром, ест хлеб, Вот именно, Если ты узнаешь когда-нибудь, то от нее, не от меня, Но вы знаете причину, Знаю, И не хотите сказать мне, Скажу тебе только, что это великая тайна, Балтазар, летать нехитрое дело по сравнению с тайной Блимунды.
Беседуя, подошли они к наемной конюшне, что у ворот Тела Господня. Священник взял внаем мула, сел в седло, Я еду в Сан-Себастьян-да-Педрейра поглядеть на мою машину, хочешь, поедем со мною, мул свезет двоих, Я готов, но пойду пешком, так привычнее пехотинцу, Ты человек природы, не нужны тебе ни копыта мула, ни крылья пассаролы, Вы называете так свою машину, спросил Балтазар, и священник сказал в ответ, Так люди назвали ее из презрения.
Они поднялись на холм Святого Роха, а затем, обогнув высокий холм Тайпас, по Праса-ди-Алегрия спустились к Валверде. Балтазар без труда шагал вровень с мулом, только на плоских участках пути отставал малость, но сразу нагонял, когда начинался спуск либо подъем. Хотя с самого апреля не выпало ни капли дождя, а прошло уже четыре месяца, поля над Валверде буйно зеленели, ибо там били из земли во множестве неиссякающие родники, и потому выращивались овощи и близ городских ворот имелись изобильные огороды. За монастырем Святой Марты и перед монастырем Святой Иоанны Королевны виднелись оливковые рощи, но и в тех местах возделывали землю под овощи, и хотя не было там естественных родников, воду из колодцев подавали «журавли», выбрасывая вверх свои долгие шеи, и ходили по кругу ослы при водокачках, глаза их были завязаны, чтобы казалось им, будто идут они вперед, и не ведали ослы, как не ведали их владельцы, что если пойдут они и в самом деле вперед, то в конце концов придут на то же место, ибо мир наш все равно что водокачка, толкают его и приводят в движение люди, что по его поверхности двигаются. Даже и в отсутствие Себастьяны-Марии ди Жезус, которая могла бы помочь нам разобраться в этой тайне, легко увидеть, что, если не будет людей, мир остановится.
Вот прибыли они к воротам усадьбы, нет здесь ни герцога, ни челядинцев, поскольку имения его были конфискованы короной, а теперь идут тяжбы на предмет возвращения оных дому Авейро, хоть юстиция и медлительна, и тогда возвратится герцог из Испании, где живет он, там он тоже герцог, но герцог де Баньос, стало быть, прибыли они, как уже было сказано, священник спешился, достал из кармана ключ и открыл ворота, словно был у себя дома. Ввел во двор мула, поставил его в тени, сунул под морду большую плетенку с соломой и бобовыми стручками и оставил там, и мул отдыхал от ноши, отгоняя пышным хвостом слепней и мух, разохотившихся при виде корма, что прибыл к ним из города.
Все окна и двери дворца были закрыты, земли заброшены, не возделаны. С одной стороны просторного двора находился то ли амбар, то ли конюшня, то ли винный погреб, но строение пустовало, а потому невозможно было узнать, для каких служб оно предназначено, ибо для амбара не хватало ему закромов, если это конюшня, то где же кольца коновязи, и не бывает винного погреба без бочек. На дверях строения висел замок, открывался он с помощью ключа, изогнутого прихотливо, точно буква арабского алфавита. Священник отодвинул засов, толкнул дверь, нет, большое помещение вовсе не пустовало, были здесь свертки парусины, бруски, мотки проволоки, листы железа, и все было сложено в превеликом порядке, а посередине, на свободном месте, виднелось нечто, похожее на огромную раковину, отовсюду из нее торчали проволоки, точь-в-точь как прутья из недоплетенной корзины.
Балтазар вошел вслед за священником, с любопытством огляделся вокруг, не понимая, что же такое он видит, может, ожидал он увидеть шар, или воробьиные крылья, но только огромной величины, или мешок с перьями, его разбирало сомнение, Так это и есть оно самое, и отец Бартоломеу Лоуренсо ответил, Будет когда-нибудь, и, открыв ларец, достал бумажный свиток, развернул его, там была изображена диковинная птица, может, эта самая пассарола, уж такое-то Балтазар мог различить, и, поскольку перед глазами у него было изображение птицы, поверил он, что все эти вещи, собранные здесь и разложенные подобающим образом, обладают свойством летать. Скорее для себя самого, чем для Балтазара Семь Солнц, который на изображении видел лишь подобие птицы и этого ему было довольно, священник стал объяснять сначала спокойным тоном, затем все более и более возбуждаясь, Это вот паруса, они нужны, чтобы противостоять силе ветра, ими пользуются по надобности, а вот руль, с его помощью будут управлять кораблем не по воле случая, но по воле и разуму кормчего, а это корпус воздушного корабля, с носом и кормой, у него форма морской раковины, здесь разместятся мехи на тот случай, если ветра не будет, как нередко случается в море, а это крылья, как без них уравновесить летучую лодку, а об этих округлых сосудах я с тобой говорить не буду, это моя тайна, скажу только, без того, что будет у них внутри, лодка не полетит, но тут я еще не разобрался толком, а к этому проволочному потолку мы подвесим янтарные шары, потому что янтарь очень хорошо вбирает тепло солнечных лучей, а мне того и надобно, а это буссоль, без нее никуда не доберешься, а это блоки, чтобы поднимать и опускать паруса, как на морских кораблях. Он помолчал несколько мгновений и прибавил, А когда все будет собрано и слажено, я полечу. Рисунок убеждал Балтазара, ему больше не требовалось объяснений по той простой причине, что, не видя внутреннего устройства птицы, мы не знаем, отчего летает она, но все же летает, поскольку она и с виду птица, проще ничего быть не может. Вот Балтазар и ограничился вопросом, Когда, Еще не знаю, отвечал священник, мне не хватает помощника, один я не все могу сделать, и есть работа, для которой моих сил недостаточно. Он помолчал и вдруг спросил, Хочешь быть моим помощником. Балтазар в изумлении отступил на шаг, Я ничего не умею, занимался земледелием, потом выучили меня убивать, а теперь, с этой рукой, С этой рукой и с этим крюком ты сможешь делать все, что захочешь, и есть работа, с которой крюк лучше справится, чем рука, крюк не чувствует боли, когда нужно натянуть проволоку или крепко ухватить кусок железа, его нельзя ни обжечь, ни порезать, и скажу я тебе, что сам Господь Бог однорук, а сотворил мир.
Балтазар попятился в ужасе, быстро перекрестился, словно для того, чтобы дьявол не успел завершить свое дело, Что вы говорите, отец Бартоломеу, где написано, что Господь Бог однорук, Никто этого не писал, нигде это не написано, да только я говорю, нет у Господа шуйцы, потому что избранные воссядут одесную от него, по правую его руку, никто не упоминает никогда о левой руке Господа, ни Священное Писание, ни доктора церкви, ошую Господа никто не воссядет, там пустота, небытие, стало быть, Бог однорук. Глубоко вздохнул священник и договорил, Нет у него левой руки.
Семь Солнц выслушал его внимательно. Поглядел на рисунок, на материалы, разложенные по полу, на раковину, покуда бесформенную, улыбнулся и, подняв руку свою и крюк, молвил, Если Господь однорук и создал мир, то вот этот человек может сладить проволоку с парусами, чтобы машина взлетела.
Но всему свое время. Покамест, поскольку нет у отца Бартоломеу Лоуренсо денег на покупку магнитов, которые, по замыслу его, должны поднять в воздух пассаролу, а их вдобавок придется выписывать из-за границы, нанялся Балтазар Семь Солнц в мясную лавку, что на Террейро-до-Пасо, попечениями все того же священника, перетаскивает он на своем горбу разные туши, говядину четвертями, молочных поросят дюжинами, барашков парами, с его крюка переходят они на крюки, что торчат из стены, оставляя попутно пятна крови на рогоже, прикрывающей Балтазару голову и спину, работа грязная, да зато перепадают ему остаточки, свиная нога, шмат рубца, а если Богу угодно будет и мясник раздобрится, то и обрезок огузка, рульки или ссека, завернутый в капустный лист, а потому Блимунда и Балтазар кормятся получше, чем прочий люд, не зря говорится, кто держит ложку да вершит дележку, тот наполнит плошку, хоть прямого отношения к дележке Балтазар и не имеет.
А вот для доны Марии-Аны срок подоспел. Животу уже расти некуда, вся кожа натянулась, огромный шар, прямо тебе корабль из Индии, бразильский флот, время от времени король посылает узнать, как идет плавание инфанта, виднеется ли он вдалеке, попутный ли дует ему ветер или попадает он в передряги вроде тех, которые приключаются с нашими эскадрами, вот и теперь близ островов захватили французы шесть наших торговых судов да одно военное, чего, а может, худшего, и надобно было ожидать от наших военачальников и от порядка, в коем следуют наши караваны, а теперь похоже, что означенные французы собираются подстеречь остальные наши суда близ Пернамбуко и Байи, если уже не стоят там, поджидая флот, который должен выйти из Рио-де-Жанейро. Столько мы открытий содеяли в пору, когда было что открывать, а теперь другие дразнят нас плащом, как быка-простака, что и бодаться-то не может, разве случайно. До королевы доны Марии-Аны также доходят дурные эти вести, но говорят ей, что это было месяц назад или два, когда инфант у нее во чреве был еще студенистой капелькой, головастиком, зародышем, диковинно, как из всего этого получается мужчина или женщина, там, в материнской утробе, им нипочем внешний мир, а ведь с этим самым миром придется им иметь дело, в обличье короля или солдата, монаха или убийцы, англичанки, сосланной на Барбадосские острова, или португалки, сожженной на площади Россио, кем-нибудь да придется стать, как говорится, не бывает так, чтоб никак. Потому что, в конечном счете, от всего и ото всех можем мы уйти, да только не от самих себя.
Этот молодчик, что удалым обличьем, привычкой поигрывать шпагой и несуразной одежонкой смахивает, хотя и бос, на солдата, не кто иной, как Балтазар Матеус, по прозванию Семь Солнц. Его из армии уволили за негодностью к службе, после того как ампутировали ему по самое запястье левую руку, в которой засела пуля, было это под Херес-де-лос-Кавальерос, когда в октябре прошлого года перешли мы испанскую границу, предприняв большое наступление с армией в одиннадцать тысяч человек, каковое закончилось потерей двухсот наших, а уцелевшие бежали врассыпную под напором конницы, посланной испанцами из Бадахоса. Стянулись мы всей ратью в Оливансу, разграбив перед тем Баркарроту, да только нам оттого мало вышло радости, потому как нет смысла отшагать десять миль в одну сторону, чтобы потом пробежать столько же в другую, оставив на поле такое множество убитых да руку Балтазара Семь Солнц. Ему еще повезло, а может, ладанка помогла, которую он на груди носит, не началась гангрена в солдатской ране и жилы не порвались, когда жгут ему закручивали, и хирург попался искусный, не стал пилить кость пилою, просто вылущил из сустава. Наложили на культю заживляющие травы, и такие крепкие были мышцы у Балтазара Семь Солнц, что через два месяца он выздоровел.
Поскольку от жалованья у него не много осталось, просил он милостыню в Эворе, чтобы подкопить денег для уплаты кузнецу и шорнику, раз уж захотелось ему обзавестись крюком, который заменил бы руку. Так и прошла зима, половину сбора он откладывал, половину другой половины приберегал на дорогу, а прочее уходило на еду и вино. Уж весна пришла, когда шорник, с которым он рассчитывался понемногу, в рассрочку, с последней выплатой вручил ему крюк, а еще клинок, тоже заказанный Балтазаром Семь Солнц, которому взбрело в голову обзавестись двумя левыми руками. Шорные работы выполнены были отменно, железные части прочно выкованы и закалены, и ремешки прилажены к ним на славу, и были они разной длины, одни закреплялись над локтем, а другие на плече, чтобы крепче держались. Странствие свое предпринял Семь Солнц в ту пору, когда стало известно, что войска, расквартированные в Бейре, не желают покидать квартиры и двигаться на выручку Алентежо, потому что в той провинции было до крайности голодно, еще хуже, чем в других, где тоже народ голодал. Солдаты ходили оборванные и разутые, грабили землепашцев, отказывались идти в бой и дезертировали, кто перебегал к неприятелю, кто к себе на родину, прячась в глухих местах вдали от дорог, добывая еду грабежом, насилуя женщин, если те попадались им в одиночку, одним словом, взимали долг с тех, кто ничего им не был должен и терпел столь же безысходные муки. Семь Солнц брел, искалеченный, в Лиссабон проезжей дорогою, ему тоже задолжали левую его руку, часть ее осталась в Испании, другая часть в Португалии, и всему причиной война, которая должна была решить, кто воссядет на трон Испании, то ли австриец Карл, то ли француз Филипп, но уж точно не португалец, какой от португальцев прок, что от двуруких, что от одноруких, что от двуногих, что от одноногих, единственное, на что годятся, оставлять на поле боя руки-ноги, а то и жизнь, так на то солдат и есть солдат, спать на земле либо спать в земле, чего ему еще. Вышел Семь Солнц из Эворы, миновал Монтемор, в попутчики не нашлось ему, как говорится, ни монашка, ни чертушки, а что руки дырявые, так у него всего одна и осталась.
Идет себе, не спешит. Никто не ждет его в Лиссабоне, не ждут и в Мафре, откуда ушел он много лет назад, чтобы записаться в пехоту его величества, отец с матерью, коли вспомнят о нем, подумают, что жив, раз вести о смерти не было, либо что умер, раз нет вести, что живой он. Да в конце концов со временем все узнается. Сейчас светит солнце, дождя давно не было, покрылись цветами кустарники, птицы поют. Балтазар Семь Солнц несет крюк и клинок в котомке, потому что выпадают минуты, а то и целые часы, когда мнится ему, что левая рука целехонька, и не хочется лишать себя удовольствия от ощущения, что все у него в порядке, все на месте, точь-в-точь как у Карла и Филиппа, у них тоже все в порядке будет и все на месте, когда воссядут себе на троны, которые, так или иначе, для обоих найдутся по завершении войны. Балтазару Семь Солнц, чтобы порадоваться, и того довольно, что, когда не глядит он на обрубок, мерещится ему, что зудит у него указательный палец, и он воображает, будто потирает большим пальцем местечко, где зудит. А если приснится ему этой ночью сон да если увидит он сам себя во сне, то с обеими руками и обе подложит под усталую голову.
И еще по одной немаловажной причине Балтазар припрятал до времени крюк и клинок. Он скоро приметил, что когда тот или другой красуются у него на культяпке, то не подают ему милостыни либо подают скупо, правда, монетка-другая все же перепадает, не зря болтается у него на поясе шпага, хотя нынче все при шпагах, даже негры, но не у всякого вид человека, который выучился владеть ею в совершенстве и, если понадобится, пустит в ход не мешкая. И если численность путников не столь велика, чтобы уравновесить подозрения, кои вызывает эта фигура, когда выходит им наперерез и становится посередь дороги, прося воспомоществования для солдата, который потерял руку и чудом сохранил жизнь, если испугаются встречные, как бы мольбы не превратились в нападение, в уцелевшую руку всегда падает милостыня, все-таки повезло Балтазару, что осталась у него хотя бы правая рука.
Миновав Пегоэнс, на подходе к большим соснякам, где начинаются пески, Балтазар, помогая себе зубами, прикручивает к обрубку клинок, который в случае необходимости заменит ему кинжал, в ту пору запрещенный как оружие, легко причиняющее смерть. У Балтазара Семь Солнц есть, так сказать, особое разрешение, и, вооруженный клинком и шпагою, пускается он в путь в лесном полумраке. По пути придется ему убить человека, одного из тех двоих, что на него напали, хоть он и кричал им, что денег при нем нет, но, поскольку возвращаемся мы с войны, где у нас на глазах погибло столько народу, эта история не заслуживает подробного изложения, разве только упомянем, что Семь Солнц заменил потом клинок крюком, чтобы сподручнее было оттащить убитого подальше от дороги, и таким манером прошли испытания оба приспособления. Уцелевший грабитель еще с полмили шел за ним следом, хоронясь за соснами, потом отстал, только послал издали ругательства и проклятия, но тоном человека, который не верит, что первые обидят, а вторые накличут беду.
Когда добрался Семь Солнц до Алдегалеги, уже смеркалось. Съел он несколько поджаренных сардин, запил кружкой вина, и, поскольку на ночлег денег у него не хватало, только-только на завтрашний переход, растянулся он в сарае под повозками и уснул там, завернувшись в шинель, но выставив наружу левую руку, вооруженную клинком. Ночь он провел покойно. Снилось ему дело под Херес-де-лос-Кавальерос, но на сей раз победят португальцы, потому как во главе войска выступает Балтазар Семь Солнц, держа в правой руке отрубленную левую, и против такого чуда нет у испанцев ни щита, ни обороны. Когда проснулся Балтазар, утренняя звезда на восточной части небосвода еще не засветилась, он почувствовал сильную боль в левой руке, ничего диковинного, когда из обрубка торчит прикрученный к нему клинок. Балтазар распустил ремни, и так могущественно самообольщение, особливо ночью, да еще в непроглядной темноте под повозками, что Балтазар, обеих рук своих не видя, вправе думать, что они все-таки здесь. Обе. Обхватил он правой рукой котомку, укутался в шинель и снова заснул. По крайней мере от войны избавился. Цел не остался, зато живой.
С первым лучом солнца он встал. Небо было очень чистое, прозрачное, видны были самые дальние и бледные звезды. Славный денек, приятно будет войти в Лиссабон, погода отменная, можно остаться в городе или продолжать путь, там видно будет. Сунул он руку в суму, вынул изношенные сапоги, которых за всю дорогу ни разу не обул, а обул бы, остались бы они на той дороге, и, помогая себе одной только правой рукой, пришлось расстараться, потому что от культи покуда мало было проку, еще не наловчился, кое-как влез в сапоги, чтобы поберечь ноги, хотя сапоги, может быть, наоборот, натрут их до волдырей, до крови, он ведь издавна привык ходить босиком, и когда крестьянствовал, и в солдатскую пору, у интендантства подметок в котел солдатам не хватало, не то что на обутку. Нет жизни хуже, чем солдатская!
Когда вышел он к переправе, солнце уже взошло. Начался отлив, лодочник кричал, что вот-вот отчалит, Место свободно, кому до Лиссабона, и Балтазар Семь Солнц побежал по сходням, в котомке бренчали крюк и клинок, и когда один шутник сказал, однорукий, мол, в суме подковы тащит, чтобы не сбить их в дороге, надо думать, Балтазар поглядел на него искоса и правой рукой вытащил клинок, а на нем либо виднелась ясно засохшая кровь, либо же сам дьявол велел, чтобы этакое примерещилось. Отвел шутник глаза, вверил себя святому Христофору, защитнику от недобрых встреч и несчастий в пути, и до самого Лиссабона рта не раскрывал. Женщина, которая по случайности оказалась рядом с Балтазаром, с мужем она ехала, развязала узелок с завтраком, и если соседу с другой стороны предложила лишь из учтивости, но без всякого желания, чтобы тот принял приглашение, то солдата уговаривала так настойчиво, что тот согласился. Балтазару неприятно было есть на глазах у людей правой своей рукой, которая без помощи второй стала как левая, хлеб выскальзывает, что на хлеб положено, то падает, но женщина ломоть отрезала широкий, остальную еду положила на ломоть подальше от краев, и таким образом, пользуясь то пальцами, то ножиком, который он вынул из кармана, Балтазар смог поесть спокойно и достаточно опрятно. Женщина по возрасту годилась ему в матери, муж ее в отцы, и речи не было о какой-то любовной интрижке на водах Тежо, на глазах у невольного или сговорчивого сводника. Просто немного сострадания к ближнему, к человеку, что вернулся с войны навсегда увечным.
Шкипер велел поднять малый треугольный парус, ветер пособлял отливу, и оба вместе лодке. Гребцы, освеженные ночным сном и утренней водкой, гребли уверенно и неслышно. Когда обогнули они мыс, лодку понесло силою течения и отлива, казалось, плывет она прямо в рай, поверхность воды блестела от солнца, и две четы тунцов, совершенно одинаковые, вынырнули перед самой лодкой, темные спины блеснули, выгнувшись, словно рыбам почудилось, что небо близко, и они к нему устремились. На том берегу, над водой, Лиссабон, еще дальний, выплескивался за городские стены. На одном из холмов виднелся замок, церковные колокольни высились над хаосом низеньких домишек, над смутным скопищем островерхих крыш. И шкипер стал рассказывать, Вчера потешная случилась история, кто хочет послушать, и все хотели, все-таки время скоротаем, плыть еще долго, Вот как оно было, начал шкипер, Пришли сюда английские корабли, они пришвартовались у причала Сантос, войска привезли, что отправятся в Каталонию на войну вместе с другими, которые их дожидались, но с этим флотом пришло одно судно с мятежниками, которых семьями отправляли на Барбадосские острова, а еще на этом судне были женщины легкого поведения, числом до пятидесяти, они туда же направлялись, в тех краях что честная, что гулящая, все едино, но капитан корабля решил, прохвост этакий, что в Лиссабоне им лучше будет, и таким способом избавился от лишнего груза, велел высадить женщин на сушу, а сложены они пальчики оближешь, я-то видел некоторых, недурны англичаночки. Шкипер расхохотался в предвкушении удовольствия, словно уже замыслил плаванье в английских водах и прикидывал, удастся ли абордаж, расхохотались громко и гребцы из Алгарве, Семь Солнц потянулся, как кот на солнцепеке, женщина, угощавшая его, сделала вид, что ничего не слышала, а муж ее сам не знал, то ли посмеяться над историей, то ли хранить серьезность, как раз потому, что он таких историй уже не мог принимать всерьез, да и вряд ли когда-нибудь принимал, ибо жил он далеко, в селении Панкас, где от рождения до смерти одно только знаешь, плуг да борозду, всю жизнь гни спину и в прямом смысле, и в переносном. И, повертев в голове одну мысль, потом другую, связав их воедино по какой-то неведомой причине, спросил он солдата, Сколько же годков вам, ваша милость, и отвечал Балтазар, Двадцать шесть.
Лиссабон был совсем близко, виднелся как на ладони, теперь дома и стены казались высокими. Лодка повернула к Рибейре, шкипер, убрав парус, причалил к пристани, гребцы, сидевшие по тому борту, которым лодка стала к причалу, единым движением подняли весла, гребцы с другого борта, поднатужившись, удержали лодку на месте, шкипер снова взялся за руль, чал пролетел над головами, оба берега реки словно соединились. Из-за отлива берег поднялся, и Балтазар помог женщине с узелком и ее мужу, без церемоний отпихнул присмиревшего шутника и выбрался на сушу.
Теснились у причала большие и малые рыбачьи суда, шла разгрузка рыбы, надсмотрщики орали, бранью, а то и тычками погоняя чернокожих грузчиков, которые следовали попарно, лохмотья их намокли от воды, капавшей из плетеных корзин с рыбой, лица и руки были облеплены чешуей. Казалось, на рынке собрались все жители Лиссабона. У Балтазара Семь Солнц слюнки потекли, словно весь голод, скопившийся за четыре года войны, прорвал плотины смирения и дисциплины. Почувствовал он, что живот подводит, машинально поискал глазами женщину с узелком, куда пошла она вместе со своим спокойным мужем, а он, может, разглядывает идущих мимо женщин, гадает, не англичанки ли они, не гулящие ли, всякому мужчине требуется держать в запасе разное, о чем можно помечтать.
В кармане у Балтазара мало денег осталось, всего несколько медяков, что позвякивали куда глуше, чем клинок и крюк в котомке, оказался он в городе, которого почти не знал, и теперь нужно было ему решить, куда держать путь, то ли в Мафру, где единственной его руке не сладить с мотыгой, для которой обе руки нужны, то ли во дворец, где, может, и подадут ему милостыню в воздаянье за пролитую кровь. Кто-то говорил ему об этом в Эворе, но еще говорили ему, что просить придется многократно, долго, к тому же надобно заручиться основательной поддержкой покровителей, и при всем том случалось, что теряли просители и дар речи, и жизнь, так и не понюхав, чем деньги пахнут. Все же как-никак были в столице духовные братства, где подавали милостыню, и монастырские привратницкие, где можно было получить похлебку и ломоть хлеба. А человеку, оставшемуся без левой руки, не приходится особенно жаловаться, если может он протягивать прохожим правую. Либо требовать, грозя железным острием.
Семь Солнц пошел по рыбному рынку. Торговки во все горло зазывали покупателей, задирали их, размахивая руками, унизанными золотыми браслетами, божась, били себя в грудь, увешанную цепочками, крестами, побрякушками, все из доброго бразильского золота, так же как и тяжелые кольца в ушах либо длинные подвески, богатые серьги, стоившие дороже, чем сама женщина. Среди грязной толпы торговки чудом сохраняли удивительную опрятность, к ним не приставал даже запах рыбы, хотя они хватали ее руками. У дверей таверны, что возле Алмазной палаты, купил Балтазар три жареные сардины и, положив, как водится, на ломоть хлеба, сжевал, дуя на горячих рыбок, по пути к Террейро-до-Пасо. Зашел в мясную лавку на площади потешить вожделеющее око видом больших кусков мяса, свиных и говяжьих туш, разделанных и четвертями развешанных на крюках. Посулил себе, что вволю наестся мяса, когда заведутся в кармане денежки, тогда он не знал еще, что в скором времени начнет здесь работать и место получит не только по милости покровителя, но и благодаря крюку, что у него в котомке, ведь им так удобно подцепить тушу, выпростать потроха, содрать слой жира. Лавка, хоть все здесь и заляпано кровью, чистая, стены белыми изразцами выложены, и если приказчик, что у весов стоит, не обвесит, то никакого другого обмана не будет, потому что мясо само правду скажет, свежее ли оно, мягкое ли.
А та вон громада и есть дворец, где живет король, дворец стоит на месте, короля на месте нет, охотится в Азейтоне вместе с инфантом доном Франсиско и другими своими братьями, и слуги при нем, и преподобные отцы-иезуиты Жуан Секо и Луис Гонзага, они-то наверняка не только затем поехали, чтобы поесть да помолиться, может, королю захотелось освежить в памяти латинские и математические премудрости, которым он у них обучался, будучи принцем. Его величество взял с собою также новое ружье работы Жуана ди Лары, главного королевского оружейника, истинное произведение искусства, отделанное серебряной и золотой чеканкой, если оно потеряется в дороге, мигом возвратится к хозяину, ибо вдоль всего ствола тянется надпись, выбитая красивыми римскими литерами, такими же, как на фронтоне собора Святого Петра в Риме, и надпись эта гласит, Я ПРИНАДЛЕЖУ ВЛАСТЕЛИНУ НАШЕМУ КОРОЛЮ, ХРАНИ ГОСПОДЬ ДОНА ЖУАНА V, все большими заглавными буквами, как у нас изображено, а еще говорится, что ружья изъясняются лишь с помощью дула и на языке свинца и пороха. Сие к обычным ружьям относится, таким, как то, которое было у Балтазара Семь Солнц, а сейчас он, безоружный, стоит посередь площади Террейро-до-Пасо и глазеет на белый свет, на крытые носилки, на монахов, на полицейских, на купцов, глядит, как взвешивают тюки и ящики, и вдруг чувствует, что тянет его на войну, да еще как, не будь он уверен, что никому там не нужен, сей же миг пустился бы в путь обратно в Алентежо, даже зная, что ждет его смерть.
Пошел Балтазар по широкой улице в сторону Россио, но прежде зашел в церковь Богоматери Оливейраской, где выстоял обедню, обмениваясь знаками с женщиной без спутников, которой он приглянулся, а впрочем, все здесь предавались этому развлечению, потому как если с одной стороны стоят мужчины, а с другой женщины, то пускаются в ход записочки, знаки рукою, взмахи платка, улыбочки, ухмылки и подмигиванье, больше ничего грешного, если нет греха в том, чтобы передавать послания, уславливаться о свидании, вступать в сговор, но, поскольку Балтазар прибыл издалека, в дороге намаялся и не было у него денег на лакомства да ленты, он на том и прекратил ухаживанье и, выйдя из церкви, направился по широкой улице в сторону Россио. Денек выдался щедрый на женщин, тому доказательством было появление целой дюжины их, они выходили из узкой улочки под охраной чернокожих полицейских, которые подталкивали их вперед своими должностными жезлами, и почти все женщины были белокурые, со светлыми глазами, голубыми, зелеными, серыми. Кто такие, спросил Семь Солнц, и, прежде чем человек, оказавшийся рядом с ним, ответил, он и сам догадался, что это и есть англичанки, которых высадил на берег пройдоха-капитан, их ведут обратно на корабль, делать нечего, придется им плыть на Барбадосские острова, не удалось остаться здесь, на доброй португальской земле, где такое раздолье иноземным шлюхам, ибо в их ремесло разноязычие не вносит такой путаницы, как при столпотворении Вавилонском, туда, где они вершат его, можно войти немым и выйти бессловесным, если только вначале сказали свое слово деньги. Но хозяин лодки говорил, что было их пятьдесят или около того, а здесь оказалось только двенадцать. А что же с остальными, и человек ответил, Кое-кого поймали, но не всех, потому что некоторые спрятались надежней не надо, сейчас, поди, уже знают, есть ли разница между англичанами и португальцами. Пошел Балтазар своим путем, а по дороге дал обет принести в дар святому Бенедикту восковое сердце, если тот сведет его хоть разок с белокурой зеленоглазой англичанкой, да чтобы высокая была и стройная. Если в день праздника этого святого идут люди в церковь просить его, чтобы дал хлеба вволю, если женщины, чающие найти добрых мужей, заказывают в честь него мессы по пятницам, что дурного в том, что попросит солдат у святого Бенедикта англичаночку, хоть раз в жизни отведать, чтобы не умереть в неведении.
До самого вечера бродил Балтазар Семь Солнц по улицам и площадям. После похлебки в привратницкой городского монастыря Святого Франциска порасспросил, какие братства пощедрее на милостыню, запомнил три, чтобы потом разузнать подробнее, церковь Богоматери Оливейраской, где он уже был, она принадлежала цеху кондитеров, церковь Святого Элоя, принадлежавшую цеху серебряных дел мастеров, и церковь Заблудшего Младенца, в названии которой усмотрел намек на собственную судьбу, хоть помнил очень мало о том времени, когда был младенцем, но кто заблудился, так это я, хоть бы нашли меня когда-нибудь.
Стемнело, и Семь Солнц пошел искать ночлег. К тому времени он успел подружиться с другим бывшим солдатом, тот был и годами старше, и опытней, а звался Жуан Элвас и жил теперь за счет уличных девиц, этот самый Жуан Элвас в теплую сухую погоду устраивался на ночь под заброшенным навесом, что пристроен к стене, окружающей монастырь Надежды со стороны оливковых насаждений. К нему в гости и напросился Балтазар, как-никак новый друг, будет с кем поговорить, но на всякий случай прикрутил к обрубку крюк, объяснив, что очень уж устала у него рука от веса котомки, надо бы облегчить, а клинок он нацеплять не хотел, чтобы не обижать Жуана Элваса и всю честную компанию, смертоносное оружие все-таки. Никто ему не сделал зла, хотя под навесом хоронилось шестеро, и он никому не сделал зла.
Пока не сморил их сон, беседовали о преступлениях. Не о тех, которые совершили они сами, про себя всяк сам знает, а Господь Бог про всех, а о тех, которые совершили люди важные, эти почти всегда остаются безнаказанными, даже когда известно, кто преступник, а уж коли неизвестно, судейские не очень-то доискиваются. Воришке, забияке прямая дорога в тюрьму Лимоэйро, да и убийце, нанимающемуся за гроши, тоже, в том случае, когда нет опасности, что язык у него развяжется и он выдаст нанимателя, а в Лимоэйро хоть будет им похлебка, это так же верно, как то, что живут они там по уши в дерьме. Вот недавно выпустили оттуда сто пятьдесят человек, повинных в преступлениях полегче, к тому времени в Лимоэйро больше пятисот человек сидело, много было таких, которых завербовали в Индию, а потом оказалось, они там не требуются, и столько народу скопилось, такой был голод, что объявилась болезнь, от которой мы все мерли, ну и выпустили кое-кого, меня в том числе. А другой сказал, В этом городе преступлениям счету нет, больше людей гибнет, чем на войне, так говорит тот, кто на войне побывал, а ты что скажешь, Семь Солнц, и Балтазар ответил, Я видал, как умирают на войне, не видал, как умирают в Лиссабоне, потому не могу сравнивать, пускай скажет свое слово Жуан Элвас, он и в военной жизни знает толк, и в городской. Жуан Элвас только пожал плечами, ничего не сказал.
Разговор вернулся к первоначальной теме, была рассказана история про позолотчика, что зарезал одну вдову, он хотел жениться на ней, а она не хотела и в наказание за свою строптивость была убита, а он ушел в монастырь Святой Троицы, еще рассказали про ту несчастную женщину, которая стала корить мужа за неверность, а он взял и проткнул ее шпагой насквозь, и еще про то, что случилось с одним священником, которого трижды основательно пырнули ножом за любовные делишки, все это было в дни Великого поста, такое время, когда кровь кипит, а злоба не спит, как выяснилось. Но август тоже месяц недобрый, как видно из того, что было в прошлом году, когда нашли женщину, разрубленную на четырнадцать или пятнадцать кусков, так и неизвестно в точности, на сколько, и видно было, что сначала избили ее жестоко, ягодицы исхлестали и живот, потом что-то нашли в Котовии, что-то там, где обстраивается граф Тароука, кое-что в Кардайсе, прямо на виду все лежало, не зарыли, не сбросили в море, а как будто нарочно выставили напоказ, чтобы нагнать на всех страху.
Заговорил тут Жуан Элвас и сказал, Да уж, помучили ее, несчастную, и, видно, при жизни, потому как терзать труп подобным образом было бы уж слишком жестоко, такое преступление может совершить только тот, у кого душа безвозвратно загублена, а сердца в помине нет, ты на войне никогда такого не видел, Семь Солнц, хоть и не знаю я, что видел ты на войне, а тот, кто начал рассказ, воспользовался этим отступлением Жуана Элваса и продолжал, Потом обнаружились недостающие части, в Жункейре нашли голову и одну руку, одну ногу нашли в Боависте, и, судя по голове, руке и ноге, была та женщина балованная и выросшая в холе, по лицу ей было лет девятнадцать-двадцать, и в том же самом мешке, где голова лежала, были внутренности, и груди, и еще младенец, месяцев трех-четырех, задушенный шелковым шнурком, много чего видывали в Лиссабоне, такого никогда.
Снова заговорил Жуан Элвас, добавил, что еще знал об этом случае, Король приказал оповестить горожан, что обещает награду в тысячу крузадо тому, кто найдет преступников, но уже почти год прошел, и никого не нашли, еще бы, все сразу поняли, что в этом деле замешаны люди, которых лучше не трогать, не сапожники, не портные, те режут только кожу да ткань, а эту женщину разрезали на куски так умело и искусно, что, когда созвали хирургов осмотреть, сказали они, что тот, кто это сделал, знает анатомию до тонкостей, они сами столько не знают, да кто в этом сознается. За монастырской стеной слышалось бормотанье монахинь, они даже не ведают, какой участи избежали, родить ребенка и так жестоко поплатиться за это, и тогда спросил Балтазар, Что же, так больше ничего и не узнали, кто хоть была эта женщина. Ни о ней, ни об убийцах ничего не известно, голову выставили на Воротах Милосердия, и никакого толку, и тут один из тех, кто до сих пор помалкивал, не столько чернобородый, сколько седобородый, сказал, Эти люди были не из столицы, живи они в столице, заметили бы люди, что исчезла женщина, и пошли бы разговоры, наверное, отец приказал убить дочку за то, что обесчестила дом, а потом велел разрубить на куски и отвезти во вьюках на муле либо на конных носилках, чтобы те куски разбросали по городу, а там, где живут они, он, может статься, приказал похоронить свинью, а сам распустил слух, что дочка померла от оспы, чтобы не показывать тела, есть люди, что на все способны, даже на такое, чего свет не видывал.
Смолкли собеседники, полные негодования, монахини притихли, как вымерли, и объявил Семь Солнц, На войне больше милосердия, Война еще не вышла из пеленок, усумнился Жуан Элвас. И поскольку после этого заключения сказать было нечего, все заснули.
Дона Мария-Ана не отправится сегодня на аутодафе. Она в трауре по случаю смерти брата своего Иосифа, императора Австрии, в какие-нибудь несколько дней напала на него оспа и унесла его, а было ему всего тридцать три года, но не по этой причине останется королева в надежно охраняемых своих покоях, в великое расстройство пришли бы дела в государствах, если бы королевы впадали в слабость по столь незначительным поводам, они приучены переносить и подобные испытания, и горшие. Хотя пошел пятый месяц, королеву все еще донимают приступы тошноты, но и это не отвлекло бы ее дух от долга набожности, а чувства, зрение, слух и обоняние от торжественной церемонии, в которой все так возвышает душу, так угодно Богу, и размеренное движение процессии, и неспешное чтение приговора, унылые фигуры осужденных, жалобные стоны, запах горелого мяса, когда на уголья падают капли жира, коего после тюремного заключения осталось совсем немного. Дона Мария-Ана не будет присутствовать на аутодафе, ибо ей трижды пускали кровь, хотя она и беременная, и по сей причине королева почувствовала сильнейшую слабость вдобавок ко всем мучениям, не дающим ей покою уже много месяцев. Отложили ей до времени очередное кровопускание, как ранее отложили сообщение о смерти брата, ибо хотели врачи укрепить здоровье королевы, ведь срок беременности еще невелик. Но, сказать по правде, воздух во дворце нездоровый, что недавно подтвердилось, когда был у короля сильнейший запор, он даже пожелал исповедаться, что и было мигом исполнено, исповедь всегда душе на пользу, но, как видно, опасность была воображаемая, ибо все кончилось благополучно, когда поставили монарху клистир, просто несварение желудка. Дворец приуныл, к обычному унынию прибавился траур, который, по велению короля, распространяется на всю его семью, и он предписал траур всем титулованным и должностным лицам и сам его соблюдает, неделю не покидал своих покоев, полгода будет носить полный траур, три месяца длинный траурный плащ и три месяца короткий, дабы выказать великую скорбь, которую причинила ему смерть императора, его шурина.
Сегодня, однако же, день всеобщей радости, хотя, может, слово это здесь не к месту, ибо наслаждение приходит откуда-то из глубины, возможно, из самой души, стоит только посмотреть на этот город, дома опустели, все горожане высыпали на улицы и площади, спускаются с холмов, сходятся на площади Россио, чтобы поглядеть, как будут наказывать евреев и новых христиан, еретиков и колдунов, не говоря уже о случаях, труднее поддающихся определению, как-то содомия, молинизм, похищение и совращение женщин и прочие мелочи, за которые положено расплачиваться костром или ссылкой. Сегодня выйдут на место лобное сто четыре человека, большинство приехало из Бразилии, этой утробы, плодящей алмазы и нечестивость, пятьдесят один мужчина да пятьдесят три женщины. Из них две будут переданы в мирские руки палача как неисправимые, согласно тексту приговора, иными словами, упорствующие в своей ереси, как убежденные вероотступницы, согласно приговору, иными словами, стоящие на своем вопреки всем свидетельствам, как бунтовщицы, согласно приговору, иными словами, не желающие отречься от своих заблуждений, каковые являются их правдою, но не к месту и не ко времени. И поскольку прошло уже почти два года с тех пор, как в последний раз сжигали в Лиссабоне людей, площадь Россио переполнена народом, нынче двойной праздник, и воскресенье, и аутодафе, так никогда и не выяснится, что больше по вкусу горожанам, то ли это зрелище, то ли бой быков, даже когда останется один только бой быков. В окнах, выходящих на площадь, виднеются женщины, разодетые и причесанные изящно, на германский лад, в подражание всемилостивейшей королеве, румяна на щеках и на груди, губки втянуты и поджаты, чтобы рот казался меньше и ?же, дамы гримасничают, поглядывают на улицу, беспокоясь, на месте ли мушка, в углу рта поцелуйница, поверх прыщика укрывательница, под глазом сумасбродка, а признанный или вздыхающий поклонник разгуливает тем временем внизу с платком в руке и помавает плащом. И поскольку день выдался жаркий, присутствующие не прочь освежиться, кто знаменитым лимонадом, кто ковшом обычной воды, кто ломтем арбуза, не пренебрегать же этими благами из-за того только, что кто-то идет на смерть. А если потребует желудок чего-то поосновательнее, хватает зерен люпина и орешков пинии, пирожков с сыром и фиников. Король с инфантами обоего пола, своими братцами и сестрицами, пообедает в Инквизиции по окончании богоугодного дела и, поскольку он уже избавился от недомогания, окажет честь столу главного инквизитора, а стол этот будет ломиться от супниц с куриным бульоном, от блюд с куропатками, телячьей грудинкой, огромными пирогами и крохотными пирожками с бараниной, сдобренной сахаром и корицей, с кастильским косидо, заправленным всем, чем положено, и вдобавок шафраном, от блюд с бланманже и, на десерт, с печеньями и фруктами. Но король столь воздержан, что вина не пьет, а поскольку добрый пример лучший урок, все им пользуются, примером, разумеется, а не вином.
Другой пример, полезный больше для души, коли тело уже вполне удоволено, будет подан сейчас на площади. Вот показалась процессия, впереди идут доминиканцы, несут хоругвь святого Доминика, за ними следуют длинной цепочкой инквизиторы, затем появляются приговоренные, сто четыре человека, как уже было сказано, у всех свечи в руках, с обеих сторон охранники, слышится только бормотанье молитвы, по головному убору сразу видно, кто приговорен к смерти, кто нет, хотя есть и еще одна верная примета, большое распятие повернуто тыльною стороною к женщинам, которые умрут на костре, а благой и страждущий лик обращен к тем, кому будет дарована жизнь, символический способ оповещения об уготованной каждому участи, если не приглядываться к одеяниям, каковые суть переложение приговора на зримый язык, желтые санбенито с красным крестом святого Андрея на тех, кто не заслужил смерти, санбенито с языками пламени, устремленными книзу, так называемыми опрокинутыми огнями, на тех, кто избежал казни, покаявшись, балахон пепельно-серого, похоронного цвета с изображением осужденного в окружении дьяволов и языков пламени означает в переводе на человеческий язык, что обе женщины в этом облачении вскоре будут гореть на костре. Проповедь произнес брат Жуан дос Мартирес, отец-провинциал, возглавляющий аррабидское монашество, и, разумеется, никто не заслуживает сей чести больше, чем он, если мы вспомним, что к аррабидскому монашеству принадлежал брат, во увенчание добродетелей коего Бог наградил королеву беременностью, да будет от его слова польза делу спасения душ, как будет польза правящему дому и францисканскому ордену от ожидаемого потомства и обещанного монастыря.
Выкрикивают добрые люди бранные слова, яростно понося осужденных, визжат женщины, высовываясь из окон, тараторят монахи, процессия огромный змей, не помещающийся на площади Россио, а потому извивающийся бесчисленными кольцами, словно решил он стать вездесущим, преподать наглядный урок всему городу, вон тот, Симеон ди Оливейра-и-Соуза, человек без ремесла и без имения, он выдавал себя за агента Святейшей Службы и, будучи мирянином, служил мессу, исповедовал и проповедовал, а в то же время во всеуслышание объявлял себя еретиком и иудеем, вот уж путаница, какая нечасто встречается, а он еще усугублял оную, именуя себя то отцом Теодоро Перейра-ди-Соуза, то братом Мануэлом да Консейсан, то братом Мануэлом да Граса, то Белшиором Карнейро, то Мануэлом Ленкастре, поди знай, какие еще имена он себе давал, и все истинные, ибо человек должен был бы обладать правом выбирать себе имя и менять его сто раз на дню, имя звук пустой, а вон тот, Домингос Афонсо Лагарейро, уроженец и житель Портела, он, дабы прослыть святым, делал вид, будто ему видения являются, и занимался исцелениями, пуская в ход благословения, заговоры, крестные знамения и прочие тому подобные суеверия, подумать только, не он первый, а вон тот, падре Антонио Тепшейра-ди-Соуза с острова Сан-Жорже, повинный в совращении женщин, а в переводе с церковного языка это значит, что он щупал их и блудил с ними, начиналось-то все с речей в исповедальне, а кончалось тайными делами в ризнице, теперь ему доживать земную свою жизнь в Анголе, куда сослан он навсегда, а это я, Себастьяна-Мария ди Жезус, на четверть из новых христиан, мне являются видения и откровения, но сказали мне на суде, что это одно притворство, я слышу голоса с Неба, но объяснили мне, что это козни демона, я знаю, что могу быть святой, как святые угодники, или еще святее, потому как не вижу разницы между ними и собою, но меня за то порицали, говоря, что сие есть преступное тщеславие и чудовищная гордыня, вызов Господу Богу, вот иду я, богохульница, еретичка предерзостная, на мне намордник, чтобы не слышали люди моих предерзостных речей, и ересей, и богохульств, меня приговорили к публичному наказанью плетьми и восьмилетней ссылке в Анголу, я слышала свой приговор и приговоры всем, кто идет со мною в этой процессии, но не слышала я, чтобы поминалась моя дочь, ее зовут Блимунда, где-то она сейчас, где ты, Блимунда, если не схватили тебя после того, как я была схвачена, стало быть, придешь ты сюда узнать, что с твоей матерью, и я увижу тебя, если ты бродишь в этой толпе, сейчас глаза мне нужны только затем, чтобы видеть тебя, рот мой под намордником, но глаза открыты, да что глаза, глаза не увидели, зато сердце чует, не раз чуяло, оно подпрыгнет в груди, если Блимунда здесь, среди этих людей, что плюют мне в лицо и швыряют в меня арбузными корками и грязью, ох, как же они заблуждаются, я ведь знаю, все могли бы быть святыми, лишь бы захотели, и не могу кричать об этом, но вот в груди своей ощутила я знак, застонало мое сердце, я увижу Блимунду, увижу ее, ох, вон она, Блимунда, Блимунда, Блимунда, дочь моя, она уже увидела меня, и не может говорить, и должна делать вид, что не знает меня или что презирает меня, ее мать колдунья, да к тому же из выкрестов, хоть и всего на четверть, она уже увидела меня, а около нее стоит отец Бартоломеу Лоуренсо, Не говори ни слова, Блимунда, только смотри, смотри своими всевидящими глазами, а кто же этот мужчина, такой рослый, он стоит подле Блимунды, не знает она, ох, не знает, кто он, откуда, что будет с ними обоими, о, мой тайный дар, судя по одежде, это солдат, судя по лицу, много чего повидал, судя по культе, увечный. Прощай, Блимунда, больше я тебя не увижу, и Блимунда сказала священнику, Вон идет моя мать, а затем повернулась к рослому мужчине, стоящему близ нее, спросила, Как ваше имя, и мужчина отвечал не задумываясь, признавая тем самым, что эта женщина имеет право задавать ему вопросы, Балтазар Матеус, а еще зовут меня Семь Солнц.
Уже прошла Себастьяна-Мария ди Жезус, прошли все остальные, процессия повернула назад, биты плетьми те, кого приговорили к этой каре, сожжены обе женщины, одну предварительно удушили с помощью гарроты, поскольку она заявила о своем желании умереть в христианской вере, другую сожгли заживо, за то что упорствовала даже в смертный час, перед кострами начались пляски, пляшут мужчины и женщины, король удалился, поглядел, отобедал и отбыл, с ним инфанты, уехал во дворец в карете шестернею и под охраной своих гвардейцев, вечер подходит быстро, но жара еще стоит удушающая, душит, как гаррота, на площадь Россио падает широкая тень от кармелитского монастыря, останки сожженных женщин отвязали от столбов, пускай догорают на угольях, к ночи пепел развеют, частицы праха не найдут друг друга и в день Страшного суда, люди снова разойдутся по домам, к подошвам башмаков пристала сажа, липкий прах, частицы горелого мяса. Воскресенье день Господень, прописная истина, все дни Господни, они уносят наши жизни, если во имя все того же Господа не унесут нас еще быстрее языки пламени, двойное насилие, сожгли меня, когда я по воле своей и разуму отказалась отдать этому самому Богу плоть и кости, и дух, что поддерживает мое тело, дух, порожденный мною, и то, что связывает меня с самой собой, то, чем мир повеял в сокрытый лик, нисколько не отличающийся от явленного очам и оттого никому не ведомый. Как бы то ни было, надо умереть.
Холодными, должно быть, показались близстоящим слова, произнесенные Блимундой, Вон идет моя мать, ни вздоха, ни слезинки, хотя бы лицом выразила сострадание, все-таки среди народа нашлись и такие, при всей ненависти, оскорблениях, издевательствах, а она ведь как-никак дочь, и любимая, это по взгляду матери видно было, а она только и сказала, Вон идет, повернулась к мужчине, которого впервые в жизни видела, и спросила, Как ваше имя, словно имя важнее, чем муки от наказанья плетьми, и это после мук тюремного заключения и пыток, и ведь знала дочь наверняка, что Себастьяна-Мария ди Жезус отправится в Анголу, даже имя ей не помогло, но, может быть, утешит ее душу и тело отец Антонио Тейшейра-ди-Соуза, он по этой части мастак, тем лучше, все-таки какая-то радость в этой жизни, даже если в той наверняка ад. Но теперь, дома, слезы льются ручьями из глаз Блимунды, если она и увидит мать еще раз, то лишь тогда, когда ту погонят на корабль, издали, легче английскому капитану высадить на берег женщин легкого поведения, чем дочери обнять мать, приговоренную к ссылке, прижаться щекой к щеке, гладкой кожей к увядшей, так близко, так далеко, где ты, кто мы, и отец Бартоломеу Лоуренсо говорит, Мы никто пред Господним промыслом, лишь ему ведомо, кто мы, и смирись, Блимунда, оставим Господни поля Господу, не будем преступать межи, будем поклоняться Ему отсель и возделывать наше поле, поле людей, а когда дело будет сделано, соизволит Господь навестить нас, тогда-то мир и будет создан воистину. Балтазар Матеус по прозвищу Семь Солнц молчит, только глядит пристально на Блимунду, и каждый раз, когда ловит ее взгляд, чувствует, ноет у него под ложечкой, никогда не видывал он таких глаз, то светло-серых, то зеленых, то голубых, они меняются в зависимости от света, что снаружи, и дум, что внутри, вдруг становятся темными как ночь или блестящими, как раскаленный добела уголек. Он пришел в этот дом не потому, что его пригласили, а потому, что Блимунда спросила у него имя и он ответил, причины основательней не понадобилось. Когда аутодафе закончилось, Блимунда пошла домой, и священник с нею, и когда подошла она к дому, дверь оставила открытой, чтобы мог войти Балтазар. Он вошел и сел, священник закрыл дверь и зажег свечу при угасающем свете полоски заката, которая зажигается, когда в нижней части города уже темнеет, слышатся голоса солдат на стенах замка, находись он не здесь, Балтазару вспомнилась бы война, но сейчас есть у него глаза лишь для того, чтобы видеть глаза Блимунды или тело ее, она высокая и стройная, как англичанка, что пригрезилась ему наяву в тот день, когда прибыл он в столицу.
Блимунда встала с табурета, разожгла огонь в очаге, поставила на треножник горшок с похлебкой и, когда похлебка забурлила, наполнила две широкие миски и подала обоим мужчинам, все это она сделала, не произнеся ни слова, она рта не раскрыла с того мгновенья, несколько часов назад, когда спросила, Как ваше имя, и хотя священник кончил еду первым, она подождала, пока кончит Балтазар, и стала есть его ложкой, словно отвечала безмолвно на другой вопрос, Согласна ли ты поднести к губам своим ложку, которой касались губы этого мужчины, теперь то, что принадлежало ему, перейдет к тебе, а то, что было твоим, перейдет к нему, и утратится смысл слов «твое» и «мое», и раз уж сказала Блимунда «да», опередив вопрос, Стало быть, объявляю вас мужем и женой. Отец Бартоломеу Лоуренсо дождался, покуда Блимунда доест из горшка остатки похлебки, благословил ее и все освятил своим благословением, и девушку, и пищу, и ложку, и лоно, и огонь очага, и свечу, и циновку на полу, и культю Балтазара. Затем вышел.
Час они просидели в молчании. Только Балтазар встал один раз, подложил полено в догорающий огонь очага, да Блимунда сняла со свечи нагар, съедавший свет, и тогда стало так светло, что Балтазар смог заговорить, Почему ты спросила, как мое имя, и Блимунда ответила, Потому что мать моя захотела узнать твое имя и хотела, чтобы я его знала, Откуда ты знаешь, ты же не могла говорить с нею, Знаю, и все тут, а откуда, сама не ведаю, не задавай таких вопросов, мне не ответить, делай так, как делал до сих пор, ты же пришел и не спрашивал почему, А теперь что мне делать, Если тебе негде жить, оставайся здесь, Мне надо вернуться в Мафру, там у меня семья, Жена, Нет, отец с матерью и сестра, Оставайся покуда, уйти ты всегда успеешь, Почему ты хочешь, чтоб я остался, Потому что так надо, Меня такими словами не уговорить, Не хочешь оставаться, уходи, я тебя не держу, Мне не уйти отсюда, нет сил, ты меня приворожила, Ничего такого я не делала, слова не сказала, пальцем до тебя не дотронулась, Ты заглянула мне внутрь, Клянусь, что никогда не буду заглядывать тебе внутрь, Клянешься, что не сделаешь этого, а сама уже сделала, Ты сам не знаешь, что говоришь, не заглядывала я тебе внутрь, А если я останусь, где буду спать, Со мною.
Они легли. Блимунда была девственна. Сколько тебе лет, спросил Балтазар, и Блимунда ответила, Девятнадцать, и тут же сразу стала гораздо старше. Немного крови вытекло на циновку. Омочив в ней кончики среднего и указательного пальцев, Блимунда перекрестилась и начертала крест на груди Балтазара, там, где сердце. И Балтазар, и Блимунда были обнажены. На улице совсем близко послышалась перебранка, звон шпаг, топот бегущих. Затем все стихло. Больше крови не пролилось.
Когда утром Балтазар проснулся, он увидел, что Блимунда, лежа рядом с ним, ест хлеб с закрытыми глазами. Раскрыла их, только когда доела, в этот час глаза у нее были серые, и она сказала, Я никогда не буду заглядывать тебе внутрь.
Нетрудное дело поднести кусок хлеба к губам, славно делать это дело, когда голод понуждает, оно приносит выгоду землепашцу, еще большую, может статься, тем, кто между серпом жнеца и зубами едока сумеет просунуть загребущие руки и тугой кошелек, так оно обычно и происходит. В Португалии не хватает пшеницы, не напасешься на аппетит португальцев, все время хлеб им подавай, можно подумать, ничего другого есть не умеют, а потому поселившиеся у нас в стране иноземцы, которых разжалобили наши нужды, приносящие им куда больше плодов, чем побеги тыквы, вызывают из своих и чужих земель караваны судов, груженных зерном, вот и теперь вверх по Тежо поднялись такие суда, обогнув Вифлеемскую башню и предъявив ее главному смотрителю соответствующие грамоты, тридцать тысяч мойо ирландской пшеницы, вот какое изобилие, голод сменился сытостью до поры до времени, ведь когда портовые зернохранилища и амбары частных лиц наполнятся, начинаются поиски складов, сдающихся внаем за любые деньги, на городских воротах вывешиваются объявления, чтобы оповестить тех, у кого имеются подходящие помещения, и тут люди, заключавшие договор о поставке пшеницы, рвут на себе волосы, потому как приходится им снизить цены, тем более что, по слухам, скоро прибудут суда из Голландии, груженные тем же товаром, но тут станет известно, что суда эти подверглись нападению французской эскадры, и цены, чуть было не снизившиеся, не снизятся, а в случае необходимости можно поджечь амбар-другой, а потом оповестить, что зерна не хватает, поскольку часть сгорела, а мы-то думали, хватает, и с избытком. Таковы торговые тайности, чужеземцы обучают, а здешние уроженцы перенимают, хотя здешние-то обыкновенно до того тупоголовы, о купечестве речь, что никогда самолично не вступают в переговоры о приобретении чужеземных товаров, довольствуются тем, что закупают их у чужеземцев, живущих на нашей земле, а эти рады поживиться на нашей простоте, и от поживы сундуки их ломятся, закупают-то они по ценам, нам неведомым, а продают по ценам, слишком хорошо нам ведомым, ибо платим мы нашим соленым потом, а то и кровавым, а там, глядишь, и жизнью.
Однако от смеха недалеко до слез, от потехи рукой подать до тревоги, от безмятежности один шаг до испуга, так живут и люди, и целые королевства, вот и рассказывает Жуан Элвас Балтазару Семь Солнц о славном ратном деле, о том, как изготовился к бою флот лиссабонский от Белена до Шабрегаса, двое суток стоял наготове, а на суше к бою изготовились пехотные полки и конница, потому как разнесся слух, что французский флот на подходе, завоевать нас желают, а при этаком предположении среди дворян ли, среди простолюдинов, но нашелся бы кто-нибудь на роль нового Дуарте Пашеко Феррейры, а Лиссабон превратился бы в Диу, да только на поверку флот захватчиков оказался рыбацким и груженным треской, которой как раз не хватало, а потому и стрескали ее так, что за ушами трещало. Министры приняли известие с кривой улыбочкой, солдаты составили ружья в пирамиды с косой ухмылочкой, зато простонародье хохотало, глотки драло, все-таки расплата за немалое число обид. Да, в конце концов, уж лучше стыд принять, ждать француза, а дождаться трески, чем рассчитывать на треску, а тут француз нагрянет.
Семь Солнц того же мнения, но он представляет себя на месте солдат, изготовившихся к бою, знает, как в те часы колотится сердце, что со мною станется, буду ли я еще живой через какой-то невеликий срок, приводит человек свою душу в порядок перед лицом возможной смерти, а тут ему сообщают, мол, треску разгружают на пристани Рибейра-Нова, проведали бы французы, еще пуще бы над нами смеялись. Чуть было не затосковал Балтазар снова по ратному делу, да вспоминает про Блимунду, и хочется ему выяснить, какого же цвета у нее глаза, и тут уж приходится потрудиться его памяти, то один цвет представится, то другой, его собственным глазам и то не разобрать, какого цвета глаза у Блимунды, даже когда глядит он на нее. Таким образом, тоска, чуть было им не завладевшая, сразу забылась, и отвечает он Жуану Элвасу, Надо бы найти какой-то верный способ разузнавать, кто на подходе, с каким грузом и намерениями, чайки, что на мачты садятся, все это знают, а нам и важно бы узнать, да никак, и старый солдат ответил, У чаек есть крылья, и есть они у ангелов, но чайки не владеют речью, а ангелов я сроду не видывал.
Проходил по Террейро-до-Пасо отец Бартоломеу Лоуренсо, возвращался из дворца, куда ходил по просьбе Балтазара Семь Солнц, который хотел выяснить, будет ли ему пенсия, стоит ли таких денег всего лишь левая рука, и когда Жуан Элвас, не все знавший о жизни Балтазара, увидел священника, он сказал, продолжая беседу, Вон идет отец Бартоломеу Лоуренсо, его прозвали Летатель, но у Летателя крылышки коротки оказались, вот и не можем мы летать и разузнавать, что за флот к нам близится, с какими умыслами и с какими товарами. Семь Солнц не смог ответить, потому что священник, остановившись поодаль, сделал ему знак подойти, и Жуан Элвас был немало изумлен, увидев, что оказался друг его под сенью Двора и Церкви, и стал он размышлять, какая от этого может выйти польза беглому солдату. А чтобы не терять времени даром, протянул он руку за милостыней и сунулся сперва к какому-то дворянину, который был в духе и расщедрился, а потом, по рассеянности, к монаху нищенствующего ордена, который шел со святым образом и подставлял его всем для благочестивого лобызания, вот и пришлось Жуану Элвасу расстаться с тем, что получил, Разрази меня гром, может, и грешно браниться, зато легче становится.
Молвил отец Бартоломеу Лоуренсо Балтазару Семь Солнц, Беседовал я с судейскими, сказали мне, что будет рассмотрено твое дело, поглядят, стоит ли тебе подавать прошение, затем дадут мне ответ, А когда это будет, отче, осведомился Балтазар, простодушное любопытство новичка, только что прибывшего в столицу и не ведающего здешних обычаев, Не сумею тебе ответить, но по прошествии времени, может, и удастся мне замолвить за тебя словечко его величеству, король отличает меня своим благоволением и покровительством, Вы можете говорить с самим королем, изумился Балтазар и добавил, Вы можете говорить с самим королем, а знались с матерью Блимунды, осужденной Инквизицией, что же это за священник такой, последние слова Балтазар вслух не произнес, должно быть, только про себя подумал. Бартоломеу Лоуренсо ничего не ответил солдату, только посмотрел ему в глаза, они стояли друг против друга, священник пониже ростом будет и кажется моложе, но они одногодки, обоим по двадцать шесть, про Балтазара-то мы уже знаем, но жизнь у них разная, у Балтазара работа и война, война для него уже кончилась, за работу снова придется браться, у Бартоломеу Лоуренсо, родившегося в Бразилии и приехавшего в Португалию юнцом, годы учения, и так много он учился, такая была у него память, что уже в пятнадцать лет он не только обещал многое, но многое из обещанного уже содеял, мог читать наизусть всего Вергилия, Горация, Овидия, Квинта Курция, Светония, Мецената и Сенеку с какого угодно места, хоть сначала, хоть с конца, откуда покажут, и мог перечислить названия всех басен, какие только написаны, и сказать, с какой целью написали их римские и греческие язычники, и мог назвать авторов всех книг в стихах, древних и нынешних, вплоть до самого тысяча двухсотого года, и если кто прочтет ему стихотворение, он тут же весьма к месту скажет в ответ десятистишие собственного сочинения, которое сразу же сложит, и можно было ожидать, что ему по плечу и по силам вся философия и самые сложные ее закавыки, и что объяснит он Аристотелеву систему, хотя она такая обширная и запутанная, и разрешит все загадки Священного Писания, и Ветхого Завета, и Нового, ведь он мог сказать наизусть, хоть подряд, хоть кусками, все четыре Евангелья, и Послания святого Павла и святого Иеронима, и мог сказать, сколько годов отделяло одного пророка от другого и сколько лет жизни каждому из них выпало, и то же самое знал про всех царей из Писания, и знал вдоль и поперек и Псалтирь, и Песнь песней, и Книгу Исхода, и все Книги Царств, и даже неканонические знал книги, обе Книги Ездры, они кажутся не очень-то каноническими, в сущности, между нами будь сказано, даже если не проявлять чрезмерной подозрительности, не очень-то каноническими кажутся и сей возвышенный склад ума, сия памятливость, сии дарования, рожденные и возросшие в Бразилии, в стране, от которой мы требовали и требуем лишь золота и алмазов, табака и сахара и лесных богатств, вот максимум того, что можно там обрести, это же другой мир, ныне и присно и во веки веков, и, само собой, нужно нести Слово Христово индейцам тапуйа, одного этого довольно, чтобы обрели мы жизнь вечную.
Сказал мне только что мой друг Жуан Элвас, что прозвали вас Летателем, отче, почему дали вам такое прозвище, спросил Балтазар. Бартоломеу Лоуренсо быстро зашагал прочь, солдат пошел следом за ним, на расстоянии двух шагов друг от друга миновали они арсенал, что на набережной Рибейра-дас-Наус, Королевский дворец, и там, где площадь выходит к реке, священник сел на камень, знаком предложил Балтазару примоститься рядом и наконец ответил, словно только что услышал вопрос, Потому что я летал, и сказал Балтазар в сомнении, Уж простите за недоверие, но летают только птицы да ангелы, а люди разве что во сне, но сны все равно что дым, Ты раньше не жил в Лиссабоне, я никогда тебя здесь не видел, Я четыре года пробыл на войне, а сам из Мафры родом, Так вот, я летал два года назад, сперва один шар построил, он сгорел, потом построил другой, тот взлетел до потолка, дело было во дворце, а третий шар вылетел из окна Палаты Индий, и никто больше его не видел, Но вы самолично летали или только шары ваши, Летали шары, но это все равно как если бы летал я сам, Одно дело, когда летает шар, другое, когда человек, Человек сперва спотыкается, потом научается ходить, потом бегать, когда-нибудь научится летать, отвечал Бартоломеу Лоуренсо, но тут пришлось ему преклонить колена, ибо мимо следовало Тело Господне для какого-то недужного сановника, священника несли на крытых носилках шесть человек, впереди выступали трубачи, сзади шли монахи из духовного братства, все в алых плащах и с восковыми свечами, и еще тут были разные разности, потребные для того, чтобы дать святое причастие чьей-то душе, нетерпеливо рвущейся в полет, ожидающей лишь, чтобы разрешили ее от телесных уз, предали воле ветра, что дует с моря, или из вселенских далей, или с того света. Семь Солнц также преклонил колена, упершись в землю своим железным крюком, правою же рукой перекрестился.
Отец Бартоломеу Лоуренсо не вернулся к своему камню, пошел неспешно к берегу реки, Балтазар шел сзади, у берега стояла лодка, полная соломы, грузчики переносили ее на спине в больших мешках, пробегали по сходням, умудряясь держать равновесие, с другой стороны подходили две чернокожие рабыни, собирались опорожнить урыльники своих хозяев, все, что скопилось за день, а может, за неделю, пахло соломой, естественный запах, и испражнениями, тоже запах естественный, и сказал священник, Я был посмешищем столицы и поэтов, один из них, Томас Пинто Брандан, назвал мое изобретение игрушкой ветра, коей сужден недолгий срок, когда бы не покровительство короля, не знаю, что сталось бы со мной, но король поверил в мою машину и дозволил мне продолжать опыты в усадьбе герцога ди Авейро в Сан-Себастьян-да-Педрейра, тут наконец мне дали дышать посвободнее клеветники, они совсем распоясались, желали, чтобы я переломал себе кости, когда полечу из замка, но я никогда ничего подобного не обещал, это всем известно, они говорили, что мое изобретение из области, подвластной Святейшей Службе, а не законам геометрии, Отец Бартоломеу, я в этих вещах ничего не смыслю, был крестьянином, потом побывал в солдатах и не верю, что кто-то может летать без крыльев, кто будет с этим спорить, тот малоумный, Но вот на культе у тебя крюк, ты же не сам его изобрел, нужно было, чтобы у кого-то возникла необходимость, а кому-то пришла в голову мысль, ибо без одного не рождается другое, вот и соединились железный крюк и кожаные ремни, а вот видишь, корабли на реке, было время, когда люди парусов не знали, было время, когда измыслили они весла, и время, когда изобрели руль, и вот человек, земнородная тварь, из необходимости стал мореходом, из необходимости и летать научится, Но тот, кто ставит паруса, на воде пребывает и на воде остается, а летать значит оторваться от земли и оказаться в воздухе, где нет ничего, во что могли бы мы упереться ногами, А мы поступим как птицы, они и летать могут, и опускаются на землю, Стало быть, вы и с матерью Блимунды свели знакомство, потому как хотите летать и слышали, что она знает толк в ведовстве, Я прослышал, что бывают у нее виденья и видятся ей люди, летающие на матерчатых крыльях, по правде сказать, в этих краях хватает людей, утверждающих, что им являются виденья, но уж очень правдоподобно было то, что мне рассказывали, вот я и наведался к ней однажды без лишнего шума, а потом и сдружился с нею, И удалось вам узнать то, что вы хотели, Нет, не удалось, я понял, ее знание, если она и вправду владела знанием, не то, которое мне потребно, и я должен бороться с собственным неведением без посторонней помощи, лишь бы мне не ошибиться, Сдается мне, недалеки от истины те, кто говорит, что это самое искусство летать больше из ведения Святейшей Службы, чем из ведения геометрии, будь я на вашем месте, удвоил бы осторожность, глядите, ведь за такие предерзостные помыслы расплачиваются тюрьмою, ссылкой, а то и костром, но об этом священник больше знает, чем солдат, Я осторожен, и покровителей у меня довольно, Что ж, может, и наступит ваш день.
Они вернулись обратно, поднялись на площадь. Семь Солнц хотел было что-то сказать, но замялся, священник заметил его нерешительность, Ты хочешь сказать мне что-то, Хотел бы я знать, отец Бартоломеу, почему Блимунда, прежде чем открыть глаза утром, всегда ест хлеб, Ты спал с нею, Я там живу, Заметь, вы состоите в незаконном сожительстве, лучше бы вам пожениться, Она не хочет, да и я не знаю, хочу ли, а вдруг решу вернуться в родные края, а она предпочтет остаться в Лиссабоне, чего ради жениться, так как же с тем, про что я спросил, Про то, почему Блимунда, прежде чем открыть глаза утром, ест хлеб, Вот именно, Если ты узнаешь когда-нибудь, то от нее, не от меня, Но вы знаете причину, Знаю, И не хотите сказать мне, Скажу тебе только, что это великая тайна, Балтазар, летать нехитрое дело по сравнению с тайной Блимунды.
Беседуя, подошли они к наемной конюшне, что у ворот Тела Господня. Священник взял внаем мула, сел в седло, Я еду в Сан-Себастьян-да-Педрейра поглядеть на мою машину, хочешь, поедем со мною, мул свезет двоих, Я готов, но пойду пешком, так привычнее пехотинцу, Ты человек природы, не нужны тебе ни копыта мула, ни крылья пассаролы, Вы называете так свою машину, спросил Балтазар, и священник сказал в ответ, Так люди назвали ее из презрения.
Они поднялись на холм Святого Роха, а затем, обогнув высокий холм Тайпас, по Праса-ди-Алегрия спустились к Валверде. Балтазар без труда шагал вровень с мулом, только на плоских участках пути отставал малость, но сразу нагонял, когда начинался спуск либо подъем. Хотя с самого апреля не выпало ни капли дождя, а прошло уже четыре месяца, поля над Валверде буйно зеленели, ибо там били из земли во множестве неиссякающие родники, и потому выращивались овощи и близ городских ворот имелись изобильные огороды. За монастырем Святой Марты и перед монастырем Святой Иоанны Королевны виднелись оливковые рощи, но и в тех местах возделывали землю под овощи, и хотя не было там естественных родников, воду из колодцев подавали «журавли», выбрасывая вверх свои долгие шеи, и ходили по кругу ослы при водокачках, глаза их были завязаны, чтобы казалось им, будто идут они вперед, и не ведали ослы, как не ведали их владельцы, что если пойдут они и в самом деле вперед, то в конце концов придут на то же место, ибо мир наш все равно что водокачка, толкают его и приводят в движение люди, что по его поверхности двигаются. Даже и в отсутствие Себастьяны-Марии ди Жезус, которая могла бы помочь нам разобраться в этой тайне, легко увидеть, что, если не будет людей, мир остановится.
Вот прибыли они к воротам усадьбы, нет здесь ни герцога, ни челядинцев, поскольку имения его были конфискованы короной, а теперь идут тяжбы на предмет возвращения оных дому Авейро, хоть юстиция и медлительна, и тогда возвратится герцог из Испании, где живет он, там он тоже герцог, но герцог де Баньос, стало быть, прибыли они, как уже было сказано, священник спешился, достал из кармана ключ и открыл ворота, словно был у себя дома. Ввел во двор мула, поставил его в тени, сунул под морду большую плетенку с соломой и бобовыми стручками и оставил там, и мул отдыхал от ноши, отгоняя пышным хвостом слепней и мух, разохотившихся при виде корма, что прибыл к ним из города.
Все окна и двери дворца были закрыты, земли заброшены, не возделаны. С одной стороны просторного двора находился то ли амбар, то ли конюшня, то ли винный погреб, но строение пустовало, а потому невозможно было узнать, для каких служб оно предназначено, ибо для амбара не хватало ему закромов, если это конюшня, то где же кольца коновязи, и не бывает винного погреба без бочек. На дверях строения висел замок, открывался он с помощью ключа, изогнутого прихотливо, точно буква арабского алфавита. Священник отодвинул засов, толкнул дверь, нет, большое помещение вовсе не пустовало, были здесь свертки парусины, бруски, мотки проволоки, листы железа, и все было сложено в превеликом порядке, а посередине, на свободном месте, виднелось нечто, похожее на огромную раковину, отовсюду из нее торчали проволоки, точь-в-точь как прутья из недоплетенной корзины.
Балтазар вошел вслед за священником, с любопытством огляделся вокруг, не понимая, что же такое он видит, может, ожидал он увидеть шар, или воробьиные крылья, но только огромной величины, или мешок с перьями, его разбирало сомнение, Так это и есть оно самое, и отец Бартоломеу Лоуренсо ответил, Будет когда-нибудь, и, открыв ларец, достал бумажный свиток, развернул его, там была изображена диковинная птица, может, эта самая пассарола, уж такое-то Балтазар мог различить, и, поскольку перед глазами у него было изображение птицы, поверил он, что все эти вещи, собранные здесь и разложенные подобающим образом, обладают свойством летать. Скорее для себя самого, чем для Балтазара Семь Солнц, который на изображении видел лишь подобие птицы и этого ему было довольно, священник стал объяснять сначала спокойным тоном, затем все более и более возбуждаясь, Это вот паруса, они нужны, чтобы противостоять силе ветра, ими пользуются по надобности, а вот руль, с его помощью будут управлять кораблем не по воле случая, но по воле и разуму кормчего, а это корпус воздушного корабля, с носом и кормой, у него форма морской раковины, здесь разместятся мехи на тот случай, если ветра не будет, как нередко случается в море, а это крылья, как без них уравновесить летучую лодку, а об этих округлых сосудах я с тобой говорить не буду, это моя тайна, скажу только, без того, что будет у них внутри, лодка не полетит, но тут я еще не разобрался толком, а к этому проволочному потолку мы подвесим янтарные шары, потому что янтарь очень хорошо вбирает тепло солнечных лучей, а мне того и надобно, а это буссоль, без нее никуда не доберешься, а это блоки, чтобы поднимать и опускать паруса, как на морских кораблях. Он помолчал несколько мгновений и прибавил, А когда все будет собрано и слажено, я полечу. Рисунок убеждал Балтазара, ему больше не требовалось объяснений по той простой причине, что, не видя внутреннего устройства птицы, мы не знаем, отчего летает она, но все же летает, поскольку она и с виду птица, проще ничего быть не может. Вот Балтазар и ограничился вопросом, Когда, Еще не знаю, отвечал священник, мне не хватает помощника, один я не все могу сделать, и есть работа, для которой моих сил недостаточно. Он помолчал и вдруг спросил, Хочешь быть моим помощником. Балтазар в изумлении отступил на шаг, Я ничего не умею, занимался земледелием, потом выучили меня убивать, а теперь, с этой рукой, С этой рукой и с этим крюком ты сможешь делать все, что захочешь, и есть работа, с которой крюк лучше справится, чем рука, крюк не чувствует боли, когда нужно натянуть проволоку или крепко ухватить кусок железа, его нельзя ни обжечь, ни порезать, и скажу я тебе, что сам Господь Бог однорук, а сотворил мир.
Балтазар попятился в ужасе, быстро перекрестился, словно для того, чтобы дьявол не успел завершить свое дело, Что вы говорите, отец Бартоломеу, где написано, что Господь Бог однорук, Никто этого не писал, нигде это не написано, да только я говорю, нет у Господа шуйцы, потому что избранные воссядут одесную от него, по правую его руку, никто не упоминает никогда о левой руке Господа, ни Священное Писание, ни доктора церкви, ошую Господа никто не воссядет, там пустота, небытие, стало быть, Бог однорук. Глубоко вздохнул священник и договорил, Нет у него левой руки.
Семь Солнц выслушал его внимательно. Поглядел на рисунок, на материалы, разложенные по полу, на раковину, покуда бесформенную, улыбнулся и, подняв руку свою и крюк, молвил, Если Господь однорук и создал мир, то вот этот человек может сладить проволоку с парусами, чтобы машина взлетела.
Но всему свое время. Покамест, поскольку нет у отца Бартоломеу Лоуренсо денег на покупку магнитов, которые, по замыслу его, должны поднять в воздух пассаролу, а их вдобавок придется выписывать из-за границы, нанялся Балтазар Семь Солнц в мясную лавку, что на Террейро-до-Пасо, попечениями все того же священника, перетаскивает он на своем горбу разные туши, говядину четвертями, молочных поросят дюжинами, барашков парами, с его крюка переходят они на крюки, что торчат из стены, оставляя попутно пятна крови на рогоже, прикрывающей Балтазару голову и спину, работа грязная, да зато перепадают ему остаточки, свиная нога, шмат рубца, а если Богу угодно будет и мясник раздобрится, то и обрезок огузка, рульки или ссека, завернутый в капустный лист, а потому Блимунда и Балтазар кормятся получше, чем прочий люд, не зря говорится, кто держит ложку да вершит дележку, тот наполнит плошку, хоть прямого отношения к дележке Балтазар и не имеет.
А вот для доны Марии-Аны срок подоспел. Животу уже расти некуда, вся кожа натянулась, огромный шар, прямо тебе корабль из Индии, бразильский флот, время от времени король посылает узнать, как идет плавание инфанта, виднеется ли он вдалеке, попутный ли дует ему ветер или попадает он в передряги вроде тех, которые приключаются с нашими эскадрами, вот и теперь близ островов захватили французы шесть наших торговых судов да одно военное, чего, а может, худшего, и надобно было ожидать от наших военачальников и от порядка, в коем следуют наши караваны, а теперь похоже, что означенные французы собираются подстеречь остальные наши суда близ Пернамбуко и Байи, если уже не стоят там, поджидая флот, который должен выйти из Рио-де-Жанейро. Столько мы открытий содеяли в пору, когда было что открывать, а теперь другие дразнят нас плащом, как быка-простака, что и бодаться-то не может, разве случайно. До королевы доны Марии-Аны также доходят дурные эти вести, но говорят ей, что это было месяц назад или два, когда инфант у нее во чреве был еще студенистой капелькой, головастиком, зародышем, диковинно, как из всего этого получается мужчина или женщина, там, в материнской утробе, им нипочем внешний мир, а ведь с этим самым миром придется им иметь дело, в обличье короля или солдата, монаха или убийцы, англичанки, сосланной на Барбадосские острова, или португалки, сожженной на площади Россио, кем-нибудь да придется стать, как говорится, не бывает так, чтоб никак. Потому что, в конечном счете, от всего и ото всех можем мы уйти, да только не от самих себя.